Часть первая Королева отверженных
1
Кардинал Мазарини вернулся от королевы. Он был мрачен, как бывал мрачен всегда, когда после очередной беседы у государыни задавался одним и тем же сакраментальным вопросом: «Каким чудом эта страна все еще существует?! Насколько хватит у французов терпения, прежде чем они возьмутся за косы и секиры, чтобы по камешку разнести все эти помпезные “пале-рояли” и “лувры”»?
Но если раньше подобные вопросы оказывались порождением его не в меру взбунтовавшихся нервов и фантазии, то на сей раз у первого министра уже не хватало ни нервов, ни фантазии для того, чтобы осмыслить взбунтовавшуюся против него реальность.
Дело в том, что эта их «тайная королевская вечеря» происходила в присутствии главного казначея и нескольких самых богатых людей Франции, потенциальных кредиторов. И крыл ее казначей совершенно невозмутимой в своей убийственности фразой: «В королевской казне не осталось ни одного золотого. Если война продлится еще хотя бы несколько месяцев и мы к тому времени не сумеем, как минимум вдвое, увеличить налоги, то к осени воевать нашим воинам придется каменными топорами, питаясь подаянием своих пленников».
«Это ж надо было так словесно изощриться: “Подаянием пленников”! Красноречив, подлец!» — с раздражением вспоминал сейчас это высказывание кардинал Мазарини, возродив в памяти исхудавшее, болезненное лицо королевского казначея.
Однажды принц де Конде — острый на глаз и злой на язык — уже сказал королеве: «Достаточно взглянуть на тощее существо, которое сидит на казначейском сундуке Франции, чтобы понять, что это сундук уличного нищего. Не пора ли подыскать человека, способного олицетворять богатство богатейшей из стран Европы? Пусть хотя бы своим внешним видом».
«Именно такой — тощий, аскетический казначей и нужен нам сейчас, — парировал присутствовавший при этом Мазарини. — Когда вся Франция восстанет против наших налогов, мы покажем им казначея. Уверен, что после этого наши несчастные сограждане сами скинутся всем миром, чтобы поддержать, если не казну, то хотя бы ее хранителя».
Парировать-то он тогда парировал, причем хлестко. А все равно слова принца всплывали как-то сами собой.
— Мы уже три месяца не платим жалованье наемникам — казакам из Польши, — напомнил он казначею и королеве. — А ведь храбрость этих воинов общеизвестна. Мы будем выглядеть перед Францией и всем миром идиотами, если вынудим их оставить нашу страну нищими, продемонстрировав перед Польшей и всеми будущими наемниками свою неблагодарность и скупость.
— И что же вы в таком случае предлагаете?! — воскликнул казначей. — Я должен продать собственный дом, чтобы ваши наемники оставили пределы королевства необиженными?!
— Если вы не изыщете возможности выплатить им все, что положено по договору, то можете считать, что сами подсказали нам совершенно безболезненный для казны выход из ситуации, — заверил его Мазарини. — И не ждите, когда я окончательно натравлю на вас принца де Конде.
При упоминании о главнокомандующем казначей болезненно передернул плечами и на всякий случай помассировал левую сторону груди. Молодого и не очень разборчивого в выражениях военачальника он боялся почти мистическим страхом. Принц мог зарубить его в присутствии королевы, и с него — как благодарности с утопленника.
В окно ударили первые капли дождя, внезапно сменившего мокрый снег, который с самого утра нависал над городом серой пеленой безысходности. Мазарини с тоской посмотрел на висевшую напротив его стола картину, на которой был воспет залитый солнцем мыс — один из уголков его родной Сицилии — и вновь перевел взгляд на занавешенное дождливой предвечерней синевой окно.
— Что, виконт, что? — наконец обратил он внимание на вышедшего из секретарской комнатки де Жермена. — Вы не знаете, почему в последнее время я воспринимаю каждое ваше появление как упрек себе?
— Позвольте не воспринимать ваше замечание как упрек в свой адрес, ваше высокопреосвященство, — кротко проворчал секретарь.
— Каждый раз вы стоите у этой двери словно верховный судья, прибывший для объявления о моей отставке.
— Нас посетил папский нунций монсеньор Барберини, — упорно возвращал его к государственным делам секретарь. — Он уже уведомлен, что вы только что были у королевы, и желал бы занять у вас несколько минут высокопреосвященного времени.
— «Высокопреосвященного времени»! Вы потрясаете меня своими словесами, виконт. Однако какие бы комплименты мы ни говорили друг другу, папский посол от этого не исчезнет.
Мазарини вновь взглянул на залитый райскими лучами берег Сицилии — далекий и недоступный — словно прощался с ним навсегда и нехотя вернулся к заваленному всяческими бумагами столу, с которыми не в состоянии будут разобраться два последующих его преемника. Заниматься этим секретарю он не позволял, поскольку тот способен был вносить в сугубо рабочий хаос его стола такой порядок, при котором у первого министра пропадала всякая охота садиться за него.
— Чего он хочет, наш досточтимый монсеньор нунций? Наш папский нунций… — почему-то повторил он последнее слово по слогам, как бы смакуя их звучание.
— Похоже, что некоторым правителям надоела бесконечная война, давно захватившая половину благословенной Европы.
Мазарини задумчиво посмотрел на секретаря.
— Не обессудьте, виконт, если в хоре этих истосковавшихся по миру правителей и политиков появится и мой, охрипший от молитв и переговоров.
* * *
С той поры, когда они виделись в последний раз, Барберини не стал выглядеть ни свежее, ни увереннее. Все тот же смиренный вид монашествующего дипломата, то же покрытое тленной желтизной изможденное лицо, которому не позавидовал бы даже главный казначей королевства; та же неизменная кожаная папочка, которую нунций постоянно носил с собой, извлекая из нее словно факир из шляпы все новые послания и благословения своего покровителя из Ватикана. Причем порой Мазарини казалось, что там, в этой папочке, они и зарождаются, и папа римский даже не догадывается об их существовании.
Встретив Барберини с полагающимся папскому послу уважением, Мазарини прежде всего взглянул на эту стянутую двумя золотыми застежками папочку. И был удивлен, что, подсев к столу, нунций совершенно забыл о ней.
— С благословения святейшего престола, — начал Барберини таким заупокойным голосом словно отпевал не только первого министра Франции, но и саму Францию, — мне велено передать вам величайшую озабоченность Его Святейшества Папы Римского тем небогоугодным кровопролитием, которое продолжает ввергать в скорбь весь христианский мир.
— Ни папа, ни тем более вы, досточтимый нунций, не можете сомневаться, что мы по-прежнему считаем себя частью этого осененного крестом мира и скорбим вместе со всеми.
— Не в каждой из стран первым министром является кардинал святой церкви, — напомнил нунций о той особой ответственности, которая ложится на Мазарини как на кардинала за все, что происходит на северо-западных границах Европы.
— Но и не каждый первый министр проявляет такое рвение в попытке прекратить войну и воцарить в Европе завещанный нам Господом мир.
Барберини понял, что переговоры зашли в тупик. Соревноваться в верноподданническом славословии с самим кардиналом Мазарини — все равно, что поучать собранных всех вместе, от Луки до Матфея, святых апостолов-евангелистов. Нунцию уже не раз приходилось убеждаться в этом, проклиная судьбу именно за то, что послала в отведенной ему папой стране премьер-министра в сане кардинала.
— Кстати, — неожиданно пришел ему на помощь сам Мазарини, — выразилась ли обеспокоенность хранителя святого престола в каком-нибудь достойном этого случая послании?
— Нет, хотя и должна была бы…
Мазарини позволил себе продемонстрировать крайнее удивление этим фактом и несколько секунд рассматривал папского нунция с почти саркастической улыбкой.
— Зная о вашем невосприятии всяческих булл и прочих посланий, я в беседе с папским статс-секретарем не решился настаивать, чтобы такое послание непременно было подготовлено. Тем более что статс-секретарь решил передать на словах то, что и было услышано им от папы.
— Сомневаюсь, что именно от папы… — как бы между прочим обронил Мазарини. — Но сейчас это уже не важно. Куда важнее другое: вы окажете неоценимую услугу и святому престолу, и статс-секретарю, обеспокоенному по чьей-то настоятельной — не будем уточнять, чьей конкретно, — просьбе; и всей Европе, если, забыв о моей нелюбви к буллам, все же осчастливите меня довольно требовательным посланием.
— Вы просите, чтобы папа письменно потребовал от вас прекратить войну? — налег запавшей грудью на стол нунций Барберини.
— Прошу, причем настоятельно.
— Не боясь резонанса, который появление подобного послания может вызвать в определенных кругах Франции и за рубежом?
— Наоборот, для меня сейчас важен именно тот резонанс, которого в иное время вполне резонно стоило бы опасаться.
Нунций посмотрел на него как на некстати ожившего апостола Петра.
— Не скрою, святому престолу будет приятно осознавать, что в прекращении войны ему досталась одна из ведущих ролей.
— Точно так же, как мне приятно будет ссылаться на послание и усилия папы римского, усмиряя этим своих генералов и апеллируя к первым министрам врагов и союзников.
Барберини еще несколько мгновений сидел, напряженно вглядываясь в лицо Мазарини, словно смел заподозрить его в кабацкой шутке. Затем резко поднялся, вынудив тем самым подняться и Мазарини.
— Мне понятна ваша озабоченность, кардинал, — почти торжественно произнес он, постукивая сухими кулачками по краю стола. — Постараюсь донести ее до статс-секретаря, а следовательно, и до папы римского. Уверен, что такое послание появится так скоро, как это позволит нам дипломатическая почта.
2
— Кто еще в этой стране способен на столь величественный жест? — молвил Карадаг-бей, когда ворота его замка отворились и во двор въехала карета Стефании Бартлинской.
— До этого советник хана лично позаботился, чтобы для моравской княгини нашли более или менее сносную польскую карету, из тех, что были доставлены в столицу вместе с трофеями, выкупил ее и подарил. Однако величественность своего жеста он усматривал не в этом.
— Вы решили оставить эту красавицу у себя во дворце? — спросил Хмельницкий.
— Когда я говорил о жесте, то имел в виду, что княгиня прибыла сюда для того, чтобы быть представленной вам, или вы — княгине, как будет угодно. Раз Стефания появилась в моих владениях, значит, она вырвана из рук хана и отдана вам.
— Действительно, благородный жест. Осталось только решить, как им воспользоваться.
— В этих вопросах вы найдете во мне лучшего советника. Если бы не вы, я попросту сделал бы ее своей наложницей, а заупрямилась бы — рабыней. Такой поворот вашего знакомства вас устраивает, господин командующий? — После той их встречи в ресторанчике «Византия» Карадаг-бей называл Хмельницкого только так — «командующий», и Хмельницкий, зная планы советника относительно создания собственной армии, стал называть его точно так же.
У глаз великой княгини уже появились первые, едва заметные морщинки. Складки у губ подло выдавали ее возраст. Тем не менее Стефания все еще оставалась ослепительно молодой и красивой. Романтическая пышность смоляных волос, два смуглых овала щек с девичьими ямочками посредине делали княгиню особенно смазливой. Очерченные коричневатой линией бантики неярких губ. Античная лаконичность слегка вздернутого носика и глубокая чернота глаз, как бы излучавших какое-то бархатное сияние.
Почти с минуту двое мужчин стояли перед этой женщиной, совершенно онемевшие, словно студенты иезуитского коллегиума перед оголенной мадонной. Причем они не просто любовались ею, а потрясенно рассматривали, удивляясь, что то, что они видят, вообще доступно их взору.
— Я еще какое-то время должна постоять перед вами как натурщица перед живописцами, или вы все же пригласите меня в этот чудный дворец, господа? — вежливо поинтересовалась великая княгиня Моравии.
— Прошу вас, княгиня Бартлинская, — первым опомнился Карадаг-бей. Да ему как хозяину и положено было опомниться первым.
На легкий белый тулупчик княгини спадала длинная розовая шаль. Тулупчик был заманчиво коротким, что позволяло видеть высокие голенища белых, расшитых красноватыми узорами сапог. Хмельницкий засмотрелся на них, пытаясь представить себе упрятанные в эту прелестную кожу икры женских ног. Полковник понимал, что сейчас в нем созревает сексуальная фантазия безумца, но это лишь разжигало его фантазию. Стефания как женщина уже давно принадлежала не ему, пятидесятитрехлетнему, поскольку принадлежать ему уже не могла. И в этом заключалась жестокая правда жизни.
— Коль уж я знаю, что вы — Карадаг-бей, только вчера назначенный командующим войсками Крымского ханства, то, следовательно, этот господин — полковник Хмельницкий.
— Так оно и есть, — вежливо склонил голову полковник. — Вот только я не знал о назначении Карадаг-бея командующим.
— Как и я, — признался Карадаг-бей. — Хотя и ожидал.
— Не огорчайтесь. Я услышала эту новость из уст личного секретаря хана Ислам-Гирея. Вам о ней будет объявлено завтра.
Карадаг-бей обрадованно взглянул на Хмельницкого, на стоявших позади него воинов и, не удержавшись, вознес руки к небесам. Впрочем, на его месте точно так же повел бы себя любой европеец, которым Карадаг-бей все еще пытался подражать.
— Тот же секретарь хана поведал мне, что вы, господин Хмельницкий, собираетесь поднять восстание, чтобы объявить Украину независимым государством. Это правда, полковник?
— Считайте, что святая.
— И поступаете так, потому что королевский двор Владислава IV отверг вас?
— В таком случае я выглядел бы перед собой и перед тысячами тех, кто пойдет за мной, чтобы отстаивать право своего народа на собственную государственность, жалким интриганом. Неужели вам видится во мне такой человек, княгиня?
Стефания изучающе прощупала Хмельницкого взглядом, но ничего не ответила. Все время, пока они усаживались за щедро накрытый стол, княгиня тоже упорно молчала.
— Вам ничего не рассказывали обо мне, господин полковник?
— Несколько общих слов о том, что такая княгиня в самом деле существует.
— То есть вы ничего не знаете обо мне?
— Почти ничего. Если не считать восторженных отзывов венгерского князя Тибора.
— Будущего правителя Трансильвании, — кивнула Стефания, загадочно улыбнувшись. — Три года назад я спасала Тибора в своем замке в Моравии, хотя князь Ракоци требовал его выдачи. Или в крайнем случае головы. К слову, голова была предпочтительнее. Как видите, я устояла. Чем могу помочь вам, полковник, будущий король Украины?
— У нас правителей называют гетманами.
— Будущий гетман, — с совершенно искренней улыбкой согласилась Стефания. Во всяком случае, полковник так и не сумел уловить в этой ее улыбке хоть какую-то долю иронии. — Так чем я могу помочь?
Хмельницкий недоуменно пожал плечами.
— Я давал повод задавать подобные вопросы?
— Не удивляйтесь, я задаю их каждому, чья судьба и чьи деяния вызывают у меня интерес. Причем делаю это безо всякого повода.
— Запомню, что в Моравии есть замок, где спасают опальные головы. Если нигде больше в этом мире мне не будет спасения, проберусь к вам. Насколько я понял, вы помогаете тем, что предоставляете приют изгнанным.
— Это не совсем так, — мягко улыбнулась Стефания. — Приют я как раз предоставляю крайне редко. Помощь заключается в другом. Всем опальным мечтателям и странникам я возвращаю надежду на то, что их мечтания сбудутся. А заодно возвращаю им чины, дворянское достоинство, уверенность в своей мудрости и могуществе.
— В таком случае вам не повезло, княгиня, — вмешался Карадаг-бей. — У командующего Хмельницкого уверенности и всего прочего предостаточно. Перед вами не интриган. Точнее сказать, не просто интриган, ибо заниматься созданием государства, не занимаясь интригами, невозможно. В историю своего народа Хмельницкий войдет, как Чингисхан — в историю монголов.
— Вот как? Он настолько сильный и властный человек? — не поверила Стефания, и, судя по всему, тоже искренне. И вопрос прозвучал со всей серьезностью. — Учтите, господин Карадаг-бей, к вашим оценкам я отношусь настолько серьезно, что готова прислушиваться к ним.
— Сильный и властный.
Стефания взглянула на смущенного, приумолкнувшего Хмельницкого с вызывающим интересом и игриво пощелкала языком.
— Считаете, что хотим убедить вас только на словах? — не сдержался полковник. — Прибудете в Украину через три года и сами убедитесь.
— Значит, вы действительно сильный и властный? В таком случае, ничем не смогу быть вам полезной. В мое окружение попадают только павшие духом. Видно, так уж мне суждено. Не зря же с некоторых пор меня называют «королевой отверженных».
— Даже так? «Королевой отверженных»? Что ж, такого титула удостоиться тоже непросто, его надо заслужить. Видно, каждый несет на себе тот крест, который взвалил.
— Уже через несколько дней я готова отправиться вместе с вами в Украину. Поможете мне проехать через дикие степи и через украинские воеводства, чтобы я смогла спокойно добраться до Кракова, где меня ждут влиятельные родственники. А уж оттуда подамся в Моравию.
— Сабель со мной немного, княгиня. Но отныне все они принадлежат вам.
— В том числе и ваша? — негромко уточнила Стефания, и взгляд ее задержался на Хмельницком чуть дольше, чем следовало бы.
Этот-то взгляд и пробудил в нем отчаянность, которая заставила полковника молвить себе: «Ты не отступишься от этой женщины. Ты не отступишься от нее никогда! Возможно, она и есть тот крест, который тебе предначертано нести до Судного дня».
Как раз в эту минуту Карадаг-бей попросил извинения и, сославшись на спешные дела, позволил себе на несколько минут отлучиться. Хмельницкий еще не мог понять, чем продиктовано поведение великого визиря [1] К? рыма, но ясно было, что тот явно помогал ему и Стефании сойтись как можно ближе. Что с его стороны действительно выглядело жертвенно.
— Говорят, вы тоже принимали участие в восстании против Габсбургов, — спросил полковник.
— Я несколько запоздала к его началу. В силу своего возраста. Зато мой род пожертвовал для чешской освободительной армии несколькими офицерами, которые в 1619 году вели чешских воинов к предместьям Вены [2]. Столицу Австрии взять им не удалось, как и выиграть войну, поскольку очень некстати против нас выступили Речь Посполитая и молдавский господарь Грациани [3].
— Не говоря уже о том, что австрийских Габсбургов поддержали военной силой Габсбурги испанские, а также баварцы во главе со своим герцогом Максимилианом [4] и, наконец, Ватикан. В то время как у Чехии оставался один-единственный реальный союзник — Трансильвания.
— Да вы, оказывается, неплохо знакомы с историей нашего освободительного движения! Не ожидала.
— Поскольку оно стало частицей истории Тридцатилетней войны. Ведь началась-то она с ваших полей сражений.
— Вы… опытный воин.
— Хотели сказать: «старый воин».
Стефания мягко улыбнулась и, слегка подавшись в сторону Хмельницкого, который сидел справа от нее, едва притронулась пальцами к его руке.
— Вы правы. Хотелось сказать именно так, мой старый воин. — Ямочки на смуглых щеках стали еще привлекательнее. Улыбка буквально преображала лицо княгини, делая его невероятно красивым. По крайней мере так казалось в эти минуты самому Хмельницкому. — Достаточно старому для того, чтобы принимать участие в этой, затеянной вами, войне. И таким образом хоть как-то влиять на ход событий в Чехии. Вряд ли я ошибусь, предположив, что в Тридцатилетней войне вы участие тоже принимали. Если это не тайна, на чьей стороне? Слуга наполнил бокалы вином, и они понемногу отпили, не дожидаясь возвращения Карадаг-бея. Вино оказалось терпковато-сладким, совершенно непохожим на шелковистые напитки, взлелеянными богами на холмах Греции, которыми угощал его в «Византии» князь Кремидис.
— Какое прекрасное венгерское вино, — развеяла его сомнения Стефания. — Однако о вине — потом. Признавайтесь, признавайтесь, мой старый воин. На чьей стороне вы сражались в Тридцатилетней войне?
— Вы не должны требовать этого рассказа, поскольку догадываетесь, что сражаться я мог только в составе польской армии. А она поддерживала вассала польского короля, господаря Грациани, которого, в свою очередь, ненавидел турецкий султан, добивавшийся, чтобы на молдавский престол взошел воевода Радул.
— Какое счастье, что мы с вами не сражались, находясь во враждебных лагерях.
— Однако султан действовал очень решительно. В 1621 году он двинул в Молдавию свои войска во главе с Искандер-пашой. Объединившись с белгородской ордой, турки предстали перед нами сильной армией, которая разгромила нас под деревней Цецорой, что неподалеку от Ясс.
— Так вы сражались под Цецорой?! Я слышала об этом жесточайшем сражении. Наше отношение к Турции, — чуть приглушила Стефания голос, — вам, конечно, известно, тем не менее следует признать, что под Цецорой они сражались храбро и умело.
— Настолько умело, что в этом сражении погиб мой отец, сотник, то есть капитан реестрового казачества. Сам же я оказался в турецком плену. Но откуда вам, женщине, знать о подобных битвах?
— Нет-нет, самой мне водить полки в бой не довелось. О Ц? ецоре известно всего лишь по рассказам отца и дяди. Они очень радовались поражению Польши. Не потому, что считали турок своими союзниками, а потому, что Грациани, поддерживаемый Турцией, был врагом нашего союзника Бетлена Габора, на которого чехи готовы были молиться.
— В какую странную завязь сплелись все те пути, которые свели нас в столице Крыма! — задумчиво молвил Хмельницкий. — Ваше знакомство с князем Тибором Ракоци конечно же является продолжением союза моравских князей с трансильванской династией Ракоци? — он спросил об этом не только из желания выяснить политические мотивы знакомства Бартлинской с князем Тибором. Куда больше полковника интересовало, что конкретно связывает лично Стефанию с этим молодым авантюристом.
— Не скрою, если нам удастся добиться, чтобы на трон Трансильвании взошел князь Тибор, то Чехия получит надежного союзника в будущей борьбе. Но только, знаете, о чем я сейчас подумала? Князю Тибору не хватает той уверенности и решительности, с которыми начинаете свое движение в Украине вы.
— Но за ним нет и той могучей воинской силы, которая сможет поддержать меня, то есть силы, подобной Запорожской Сечи, — попытался полковник быть справедливым в отношении своего соперника. — Это-то и сказывается на его положении, его неуверенности в успехе.
Стефания едва заметно улыбнулась, давая понять, что сумела оценить благородство собеседника. Но тотчас же огорчила Хмельницкого, не пожелав больше рассуждать по поводу своих отношений с опальным венгерским князем.
3
Князь Тибор был разочарован. Приезд княгини Стефании Бартлинской почти не сказался на отношении к нему при дворе Ислам-Гирея, где, несмотря на ужин с ханом в «Византии», его по-прежнему воспринимали со скептической снисходительностью как человека, за которым никто и ничто не стоит.
Он был бы еще больше разочарован, если бы точно знал, почему оказался тогда в «Византии». Когда в конце вечера, во время которого немало было молвлено о союзе Крыма и Украины, гетман Хмельницкий поинтересовался, почему на нем присутствует опальный трансильванский князь, Карадаг-бей, со свойственной ему загадочной откровенностью, объяснил:
— Чтобы при дворе турецкого султана узнали от этого странствующего рыцаря, удостоенного моего приема, о чем в действительности шла речь во время встречи атамана казаков с крымским ханом.
— То есть здесь было сказано только то, что достойно ушей султана?
— Не сказал бы, — возразил Карадаг-бей. — Но то, что их недостойно, очень часто оказывается выгодным для тех, кто не желает укрепления Ислам-Гирея на бахчисарайском престоле.
— Разве сейчас в «Византии» присутствуют и враги Ислам-Гирея?
— А разве непрочность ханского престола обязательно доставляет удовлетворение только лютым врагам хана? Очень часто шаткость важна как непрочные, но все же ступени, ведущие в дальновидную политику.
Но, даже не догадываясь, кто именно является «невольными ушами турецкого султана» и «одной из шатких ступеней» обманчивой политики, неискушенный в государственных делах князь Тибор имел все основания молчаливо обижаться. Это он, узнав из письма, переданного ему трансильванским посланником в Крыму, о прибытии княгини, по существу, подготовил Бахчисарай к ее приему. Стефания удостоила его лишь очень краткой аудиенцией в замке Карадаг-бея, где временно размещалась ее «походная», как она выразилась, резиденция.
— Я удивлена, князь. Оказывается, вы избрали Турцию страной своего изгнания? — покровительственным тоном сочувствующей императрицы спросила Стефания, избегая какого-либо светского вступления в беседу. И даже не поинтересовавшись, как он оказался в Татарии.
— Меня никто не изгонял, княгиня.
— Я сказала: «добровольного изгнания».
— Это не изгнание. Я отправляюсь в Стамбул, чтобы просить помощи и поддержки для того дела, которое задумал в Трансильвании.
— И кого же, по вашему замыслу, должен будет поддерживать султан?
— Меня, естественно.
— Понимаю, — снисходительно улыбнулась княгиня. Она была значительно старше Тибора и могла позволить себе даже эту улыбчивую снисходительность. — Султан и все его министры будут весьма удивлены, узнав, что род Ракоци осчастливлен еще и таким, столь дерзким, его представителем.
«Да она попросту издевается надо мной! — закралось в Тибора подозрение. — Или же решила не рисковать, связываясь с опальным князем из рода Ракоци».
— Но в Стамбуле тут же поинтересуются, кто, собственно, стоит за вами. Кроме меня, естественно, — поспешила она исключить себя из этого разговора.
— За мной пока никто не стоит, вам это известно. Однако со временем там будут стоять весьма влиятельные личности.
— А почему это за вами до сих пор никто не стоит? Ведь замысел ваш возник не в день отъезда из Трансильвании.
— Так поступают все претенденты. Вначале они ищут поддержки при дворе одного из влиятельных соседей, который мог бы поддержать его золотом и саблями, а затем уже… К п римеру, вместе со мной здесь находится полковник Хмельницкий, прибывший от запорожских казаков. Так он ищет поддержки даже не в Стамбуле, а в Крыму.
Стефания рассмеялась.
Их встреча происходила на смотровой площадке башни, с которой открывался вид на горное ущелье. Перевал гасил холодные ветры, прорывавшиеся с моря, и хотя там, наверху, верхушки деревьев гнулись под его напором, здесь, в уютном подковообразном каньоне, царило солнце, бредили ранней зеленью жидковатые кустарники и настраивали голоса на свадебные концерты взволнованные теплом и инстинктами птицы.
— Что вас так рассмешило, княгиня? — едва сдерживал горделивую обиду князь Тибор. Несмотря на разницу в возрасте и на то, что княгиня Бартлинская когда-то спасла ему жизнь, он все же требовал, чтобы с ним держались на равных.
— Конечно же ваши неубедительные аргументы, Тибор.
— Какие именно?
— Вы ведь сами сказали, что Хмельницкий представляет здесь казаков. Вам нужно объяснить, что такое запорожское сечевое воинство? В Стамбуле вам разъяснят сие намного лучше. К тому же вы назвали его чин — полковник. Причем полковник, имеющий большой военный и дипломатический опыт. А главное, он — Хмельницкий! — неожиданно добавила Стефания, стараясь произносить эти слова чуть тише и задумчиво всматриваясь в склон горы.
— Он Хмельницкий, а я — князь Тибор Ракоци.
— Увы, пока что вы только Тибор. Ракоци — тем, настоящим князем Ракоци, от одного имени которого вздрагивает вся Трансильвания, — вам еще только подлежит стать. Поэтому мой вам совет: возвращайтесь в свою Трансильванию и начинайте восхождение оттуда. Стамбул принимает тех, кого принимает его собственная страна, ее королевский двор. За кем уже возвышается воинская сила. Но стоит ли какая-либо сила за вами, Тибор? — умышленно избегала Стефания употреблять слово «князь».
Венгр удрученно промолчал. Что-то произошло с этой чешской авантюристкой. Он ожидал увидеть ее совершенно иной, слышать совершенно иные речи. Мало того, князь даже надеялся, что ему удастся уговорить княгиню вернуться с ним в Стамбул, чтобы потом вместе, но уже через Боснию и Сербию, прибыть в Трансильванию, попутно собрав под свои знамена трансильванских эмигрантов и хотя бы небольшой отряд турок.
Но, самое главное, на что рассчитывал Тибор, — что ему удастся жениться на княгине. Разница в возрасте его совершенно не смущала. Именно эта разница и должна была толкнуть Стефанию в его объятия. Тибор знал, что политические страсти в Чехии более или менее улеглись и что там княгиню ждет имение в Западной Моравии и небольшой замок возле Градца-Карлового. Оказавшись владельцем этого замка и превратив его в настоящую крепость — уж об этом Тибор позаботился бы в первую очередь, — он мог бы постепенно подступаться не только к престолу Трансильвании, но и к чешскому. Его высокородная кровь вполне позволяла претендовать на любой трон Европы. Ведь был же в свое время трансильванский князь объявлен польским королем Стефаном Баторием! И поляки до сих пор чтут его как великого правителя.
— Мне кажется, вы слишком увлечены этим украинским полковником, княгиня, — насмешливо упрекнул он Бартлинскую.
— Не вам судить об этом, Тибор.
— Почему же не мне?
— У вас нет для этого права.
— Извините, княгиня, я так не считаю.
Черные крылья бровей княгини Бартлинской воинственно поползли вверх и замерли на самом высоком взлете. Ей не раз приходилось выслушивать объяснения в любви и заманчивые предложения мужчин. Но не в такой ситуации и не с таким «запевом».
— Вы могли бы выражать свои мысли еще более туманно, Тибор, а то я начинаю слишком хорошо понимать вас.
Князь нервно подергал эфес короткой сабли, угрюмо пошевелил челюстями, словно пытался раздробить зубами сросшиеся, окаменевшие слова, которыми надеялся расчувствовать чешку.
— …И все же, княгиня, мне бы очень хотелось, что бы вы отправились вместе со мной в Стамбул.
Бартлинская ничего не ответила, что позволило венгру на его ломаном немецком, на котором они общались все это время, описать все прелести путешествия, задуманного им. Вплоть до возвращения в Трансильванию через чудные долины Боснии и Воеводины. Однако все его старания оказались напрасными. Стефания не говорила «нет», но было ясно, что отправляться с ним назад, в Турцию, не имела никакого желания.
— Я понимаю, вы только что побывали в Блестящей Порте и ваше возвращение туда…
— Причем здесь Блестящая Порта, князь Тибор? — рассеянно перебила его своенравная чешка.
— Как? Но ведь мы же говорим сейчас о Турции. О том, чтобы вы, вместе со мной…
— Мы говорим не о Турции, а о том, чтобы «вместе с вами»… Вот в этом-то и вся суть. Я не решусь отправиться с вами даже на прогулку вон в то прелестное ущелье, на склонах которого, как видите, разгорается охота.
Из ущелья действительно доносились ружейные выстрелы, в перерывах между которыми, очевидно, пели тетивы луков. Однако любое отвлечение от темы разговора лишь раздражало Тибора.
— Но почему, княгиня?
— Лучше изложите то главное, ради чего начали разговор.
— Главное? А что вы считаете главным? — совершенно растерялся князь.
— Ну да, главное. Ведь не ради вояжа в Турцию вы приглашаете меня в это путешествие. И не ради того, чтобы я упрашивала турецких министров помочь вам воинами и деньгами. Вы же знаете, что я не стану упрашивать, тем более что сама недавно представала перед ними в роли просительницы.
— Вы правы, княгиня, — только сейчас понял, к чему клонит и чего требует от него Королева отверженных. — Если говорить откровенно, я давно влюблен в вас… И мне бы очень хотелось, чтобы вы… Понимаете… Словом, я прошу вашей руки, княгиня Бартлинская.
— Вот видите, Тибор, всегда нужно начинать с главного. Тогда многое второстепенное сразу же оказывается лишним. Если бы вы начали с «моей руки», то очень скоро поняли бы, что она вам не достанется. Никогда и ни при каких обстоятельствах. И тогда все красоты Турции, Боснии и Воеводины, которые вы только что живописали, вам уже не понадобились бы. Вернее, они уже не привлекали бы вас. Я не слишком обидно отвергаю ваши притязания на мою руку?
— Не слишком, — зло проворчал Тибор, не собираясь прощать ей оскорбительные вольности. — Многие женщины Европы почитали бы за честь…
— Не зря же меня называют «Королевой отверженных».
— Вас называют так по совершенно иной причине, — обидчивость являлась не лучшей чертой этого претендента на трансильванский престол. И княгине давно был знаком этот недостаток. Удивляло другое: шли годы, князь взрослел, однако набираться мудрости общения так и не собирался. Стефанию это не столько удручало, сколько сугубо по-матерински удивляло. Ведь пора бы уже, пора…
— Причины, по которым меня называют так, а не иначе, — отрубила княгиня, — известны только мне. В том, истинном толковании, которое всем остальным недоступно…
4
— Вы знали, что мне наносил визит князь Тибор? — Стефания присоединилась к Хмельницкому, который решил осмотреть окрестности замка Карадаг-бея.
— Знал, конечно.
— Так совпало, что визит этот состоялся как раз накануне вашего отъезда. Он как-то скажется на наших отношениях?
— Вся наша жизнь состоит из визитов и приемов, — не слишком жизнерадостно поведал Стефании гетман. — Почему к приезду сюда некоего князя я должен относиться с особой предвзятостью?
Княгиня расстегнула свой короткий тулупчик, под которым Хмельницкий мог разглядеть европейский костюм наездницы, какие приходилось видеть только во Франции. Даже в более или менее цивилизованной Польше представать перед мужчинами в подобном, почти мужском, одеянии женщины не решались. Точнее, решались не все, кроме француженок. В седле она тоже держалась по-мужски, привычно и уверенно.
Поднявшись вслед за полковником на горную кручу, она остановила своего коня буквально на краю обрыва, с которого несчастное животное могло сорваться от любого неосторожного движения. Однако сама Стефания словно бы не замечала опасности. Это конечно же была игра на нервах полковника и своих собственных. Но какое убийственное, роковое хладнокровие!
Пока Хмельницкий нервно посматривал на ноги ее коня, княгиня любовалась открывавшимся ей пейзажем: горная долина завершалась в этих местах узким ущельем, к которому подступало несколько татарских хижин под красной черепицей. И селение, и само ущелье казались бы совершенно вымершими, если бы не журчание ручья, зарождавшегося из двух горных родников и лениво стекавшего по огромным камням, чтобы исчезнуть где-то в дебрях кустарниковой россыпи.
— Вы не станете возражать, полковник, если я присоединюсь к вам, чтобы вместе преодолеть хотя бы путь, оставшийся до Перекопа?
— Думаю, что самый опасный участок вашего путешествия начнется уже за Перекопом, где шайки степняков не сдерживает даже призрачная власть местного мурзы и где золотой жетон султана стоит не больше, чем старая попона из-под татарского седла.
— То есть вы приглашаете меня разделить скуку вашего путешествия до самой Сечи?
— Думаю, что могу провести вас даже на тридцать-сорок миль дальше этой степной цитадели. До тех пределов, до каких показываться мне уже небезопасно.
— Вы необычайно добры ко мне, полковник. Не исключено, что я приму и это ваше приглашение. Я знаю, какой вопрос вас волнует.
— Это вы о чем?
— Вас интересует, каковы мои отношения с князем Тибором.
— Каковы же ваши отношения с князем Тибором? — в тон ей спросил полковник и, не выдержав пытки нервами, нагнулся и, осторожно захватив коня за узду, отвел от края гибели.
Стефания восприняла этот жест совершенно спокойно, словно и не заметила старания и усилий полковника.
«Не может быть, чтобы женщина вела себя с таким безразличием к судьбе, — мелькнуло где-то в глубине его сознания. — Но еще больше это не похоже на притворство».
— Только вчера я отказалась стать его женой. Такой лаконизм вас удовлетворит?
— Вы? Его женой?!
— Почему вы переспрашиваете об этом с… таким ужасом?! — притворно возмутилась Стефания. — Хотите сказать, что я уже вообще ни на что не гожусь? Даже в жены?
— Да нет, я… Просто неожиданно как-то.
— Прощаю. Выкрутились.
Хмельницкий прикинул разницу в возрасте Стефании и Тибора и удивленно покачал головой. Он чувствовал, что Тибор восхищен княгиней, и понимал, что без флирта там не обошлось, однако не предполагал, что намерения молодого князя могут зайти столь далеко.
— Не утруждайте себя подсчетами, — рассмеялась Стефания, обратив внимание на то, как слишком уж напряженно молчит ее собеседник. — В матери Тибору еще не гожусь, но ведь и он просил меня не об усыновлении.
Они оба сдержанно рассмеялись. Двое повидавших жизнь и знающих ей цену людей — они могли бы спокойно порассуждать о том, что такое «порывы души» и как часто они не согласуются с реалиями жизни. Могли бы, если бы в их отношениях не просматривалась то же возрастное несовпадение, которое погубило намерения князя Тибора.
— А ведь я вдруг с ужасом подумал, что и сам вряд ли смогу удержаться от предложения…
— Что вы холосты, я уже знаю. Сообщил ваш сын. Не мне, естественно. Кстати, вы могли бы и сами познакомить меня с Тимошем. Не пойму, почему вы держите его в заезжем дворе, вдали от замка Карадаг-бея?
— Он находится вместе с остальными казаками. Со мной только оруженосец.
— Суровый отец. Однако мы отвлеклись. Кажется, вы храбро заявили, что собираетесь делать мне предложение?
— Мне же кажется, что вы собирались отказать, вежливо сославшись на более важные дела, нежели замужество. На государственные… дела.
Несколько минут Стефания молчаливо спускалась по склону, едва удерживая коня. Но как только миновали каменистую тропу и впереди показался поросший травой склон, она пришпорила рысака и, огласив окрестности воинственным кличем воинов своей земли, сломя голову понеслась вниз, далеко обогнав при этом не только Хмельницкого, но и двух оруженосцев, Савура и Власта.
Гетман сумел догнать княгиню лишь недалеко от замка. Подпустив его довольно близко, Стефания перегнулась в седле и признательно потерлась плечом о его плечо, словно благодарила за то, что он не заставил ее въезжать в эту мрачную татарскую цитадель в одиночестве.
— Не повторяйте своего предложения, — вполголоса, умоляюще попросила она. — Не заставляйте меня отвечать прямо здесь и сейчас.
Хмельницкий обиженно пожал плечами.
— Вы ведь понимаете, что судьба наша складывается каким-то непостижимо сложным образом.
— Вы украли все мои оправдания, княгиня.
— Вы правы! — рассмеялась Стефания. — И потом, мы ведь еще вернемся к этому разговору, разве не так? Не здесь, конечно, не в азиатской степи.
* * *
Вновь оказавшись в замке, Хмельницкий вдруг почувствовал, что весь его интерес к Крыму исчерпан и каждый час, который он проводит поблизости от Бахчисарая, безнадежно потерян для него. Полковнику хотелось поскорее вернуться в свой лагерь на днепровском острове, осмотреть повстанческие отряды, сформированные полковником Кривоносом за время его отсутствия, приступить к их обучению… В эти дни он много размышлял о том, как из наспех сколоченных отрядов создать настоящую, хорошо обученную армию. Пусть небольшую по численности, но готовую противостоять полякам в конном и пешем бою.
— Уверен, что последние проведенные у меня часы не покажутся вам столь тягостными, когда вы познакомитесь с моим учителем фехтования, — появился в покоях Хмельницкого, расположенных в северном крыле замка и соединенных с центральной частью переходным мостиком, Карадаг-бей.
— Два урока фехтования, полученных у этого мастера, стоят участия в двух победных сражениях.
— Это хорошо, что у вас есть свой учитель фехтования, — охотно расстался со своим лежбищем полковник. — Он татарин?
— Перс. Мне купили его в Стамбуле, почти как пленного, за сугубо символическую плату. Ни тот, кто продавал, ни тот, кто покупал, представления не имели о даре фехтовальщика, которым обладает этот человек. Один такой воин заменит на поле боя десять ваших казаков.
Хмельницкий недоверчиво хмыкнул.
— Скажем, пятерых татар, — смилостивился Карадаг-бей, не желая унижать своего нового союзника.
Только сейчас гетман узнал, что владелец замка до сих пор скрывал от него существование специального гимнастического зала, в котором, между потолком и полом, были подвешены несколько чучел, в том числе и чучело всадника. А еще здесь располагался целый арсенал всевозможного оружия — от старинных двуручных немецких мечей до турецких ятаганов и английских палашей. Одних кинжалов — разной величины и конфигурации, с невообразимо красивыми рукоятками — было развешано на коврах более ста пятидесяти. Здесь же, на специальных подставках, лежали кистени, булавы, боевые секиры… Этой коллекцией можно было любоваться целый день напролет. Но создавал ее хозяин явно не для развлечения гостей.
— Сколько поколений вашего рода собирало весь этот арсенал? — удивился Хмельницкий.
— Те же три поколения, которые возводили этот замок. Каменный, как вы заметили, в отличие от глинобитного двора хана.
— Это уже одобрено нами. Приятно удивлены.
— Но самым ценным оружием в этой коллекции является мой главный фехтовальщик, которого я считаю лучшим в мире.
— В мире?
— А кто и каким образом способен оспорить это мнение? — улыбнулся Карадаг-бей.
— Тоже верно.
Убедившись, что полковник согласен с его мнением, Карадаг-бей хлопнул в ладоши. Тотчас же открылась замаскированная небольшим ковром дверь, и оттуда появился невысокого роста худощавый воин — бритоголовый, одетый так, как обычно одеваются татары. Некогда довольно симпатичное полуевропейское лицо его было рассечено тремя шрамами, глубокими и безобразными.
Глядя на них, Хмельницкий подумал, что эти шрамы и есть та истинная плата, которую Гурлал — так звали перса — заплатил за свое мастерство. Хотя, с другой стороны, трудно убеждать кого-то в своем исключительном мастерстве фехтования, имея такие отметины на лице. «Интересно, — подумалось полковнику, — было бы взглянуть на него оголенного».
Вначале Гурлал упражнялся с чучелами. Юлой вертясь между ними, он тупой фехтовальной саблей наносил удары налево и направо; в каком-то невероятном прыжке врубался в шею всадника, с разворота отсекал голову пехотинцу, и тут же, провертевшись почти у самой земли, подсекал ноги другого врага. А, поднимаясь, успевал метнуть в чучело невесть откуда появившийся в его руке нож.
Хмельницкий был потрясен. Но еще больше он восхищался, видя, как перс воспроизводит все это в схватке с тремя татарами, тоже, в общем-то, не последними фехтовальщиками Татарстана. Прыжки, подкаты, удары с разворота и во время непостижимых по своей замысловатости кувырков…
Все это наводило на мысль, что его, Хмельницкого, собственное умение фехтовать, которым он не раз поражал казаков и во время тренировок, и в бою, — всего лишь размахивание саблей жалкого неуча. Только сейчас ему открылось такое искусство сабельного боя, которое совершенно перевернуло его представление о боевой схватке и человеческих возможностях.
Вооружившись, Хмельницкий все же попробовал вступить с персом в схватку, но на втором взмахе Гурлал остановил его палаш своей саблей и в следующее мгновение выбил его ударом ноги. Да так, что палаш подлетел к потолку.
— Вы напрасно растревожили меня, Карадаг-бей, — признал Хмельницкий. — Постичь эту науку я, очевидно, уже не в состоянии. Но и верить в себя как в фехтовальщика с этого дня тоже не смогу.
— Не огорчайтесь, полковник. Каждый раз, когда этот пленник таким вот образом обезоруживает меня, в голову мне приходят точно такие же мысли.
— Как такой человек способен попасть в плен?
— С остатками гарнизона, который был сдан его командиром в небольшой крепости под Басрой.
— Только так и можно объяснить появление этого стального барса среди пленников, — признал Хмельницкий. — Нет, Карадаг-бей, вы не должны были показывать этого фехтовального шайтана. Разве что хотите сторговать его мне. С удовольствием приму как дар или выкуп, пустив шапку по кругу через все свое войско.
— Вы не так поняли меня, — мягко улыбнулся Карадаг-бей. — Я всего лишь показал вам, полковник, кто станет обучать вашего сына, когда потянутся томительные дни его пребывания в Бахчисарае.
— Моего сына? Я еще надеюсь, что он отбудет из Крыма вместе со мной. — Молвив это, Хмельницкий настороженно взглянул на командующего войсками хана и заметил, как в глазах того вспыхнул какой-то странный, холодновато-презрительный огонь.
— Не уверен, что ему удастся отбыть вместе с вами, полковник. Хан не откажется от заложника.
— Вы уже наверняка знаете, что не откажется?
— Уже знаю, — проворчал Карадаг-бей.
— И никак нельзя изменить ход этих событий?
— Нельзя, поскольку он предопределен свыше. А что вас так удивляет, полковник? Неужели вы не понимаете, что, посылая войска в стан своего давнишнего врага — казаков, хан потребует гарантий?
— В общем-то, предполагал.
— И потом, почему вдруг вы захватили с собой сына? Что заставило вас пойти на этот шаг?
— Тимош был со мной на Сечи, и мне не с кем было его оставить.
— Лжете, полковник, лжете! Вы преспокойно могли оставить своего юного сына в любом казачьем зимнике или передать на попечительство любому из старых запорожских казаков. Вы привезли его сюда только для того, чтобы использовать как предмет торга. Вы брали его в Бахчисарай, отлично понимая, что ведете нам заложника, которому вряд ли удастся выбраться отсюда, поскольку война затевается в союзе с татарами, не привыкшими к обычным войнам. Их девиз: налетел, ограбил — и беги в крымские степи.
Вместо того чтобы решительно возразить Карадаг-бею, полковник лишь устало, затравленно взглянул на него и, отшвырнув фехтовальное оружие, вышел из зала.
Он прав, этот чертов татарин. Конечно же прав. Однако какой жестокостью нужно обладать, чтобы плеснуть этой ослепляющей правдой прямо в глаза! Как не по-людски это получилось.
«А подставлять собственного сына в качестве ханского заложника, по-твоему, по-людски? — с не меньшей жестокостью упрекнул себя полковник. — Если ты так считаешь, то попробуй убедить в этом Карадаг-бея и казаков, которые, отправляясь с тобой в это странствие, прекрасно понимали, зачем тебе понадобился Тимош. И понимают, почему в эти дни ты стараешься как можно реже бывать с ним. Дабы парнишка уже сейчас привыкал жить без тебя, в окружении татар. Зная, что отца рядом нет, и в ближайшие годы не будет».
Чтобы как-то успокоиться, Хмельницкий вышел на смотровую площадку и несколько минут стоял там, подставив лицо северному ветру, прорывавшемуся, возможно, откуда-то из низовий Днепра, ветру его родины.
Карадаг-бей неслышно остановился в двух шагах от него, чуть позади, однако одиночества не нарушал. Их молчаливое противостояние продолжалось до тех пор, пока вдруг привратник ни сообщил, что появился гонец от хана.
«Он таки накликал беду, — сжалось сердце полковника. — Без него, воителя, здесь не обошлось».
— Светлейший Карадаг-бей, — молвил гонец, не обращая внимания на стоявшего рядом Хмельницкого. — Наисветлейший хан повелел вашему гостю прибыть завтра после обеда в его дворец. Великий хан соизволил принять этого чужеземца.
— Передай хану, что полковник Хмельницкий, вместе с офицерами, которые сопровождают его, припадает к ногам повелителя Крыма, — сухо, бесстрастно, не вкладывая никакого особого смысла в свои слова, проговорил Карадаг-бей и победно оглянулся на замершего Хмельницкого.
«А вот и развязка. Именно та, которой ты опасался», — говорил его взгляд.
5
— У ворот какой-то моряк, графиня, просится в замок.
— В мой замок не может проситься «какой-то моряк». Прежде чем войти ко мне с этим докладом, шевалье, вы обязаны точно знать, кто этот моряк, почему оказался у замка Шварценгрюнден, кто его послал, а главное, откуда ему известно, что я здесь. Ведь прибыла я только вчера вечером.
— Его зовут Кшиштофом, испепели меня молния святого Стефания. Он больше поляк, нежели француз, но служить изволил на французском корабле «Святая Джозефина».
Название показалось Диане де Ляфер знакомым. Когда-то ей уже приходилось слышать его.
Почти весь день графиня, вместе с шевалье де Куньяром, осматривала выдолбленный в скале «Тайный зал для посвященных», два подземных хода, ведущих из него через гранитное тело горы — один к реке, другой в лес; подземелье, пронизывающее остальную часть плато, на котором высился Шварценгрюнден… А теперь, при свете предзакатного солнца и двух светильников, она сидела над старинным планом замка, составленным его строителями и дополненным теми, кто достраивал, перестраивал и укреплял Шварценгрюнден.
— Что это за корабль, де Куньяр? Ты что-нибудь слышал о нем?
— Почему вас заинтересовал корабль, графиня? — со свойственной ему бестактностью спросил шевалье, громыхая голосом словно мешком, набитым старыми подковами. — Сюда, испепели меня молния святого Стефания, прибыл не корабль, а моряк. Который всего лишь уверяет, что он служил на этом корабле, а потому желает поговорить с владелицей замка.
— Будь вы чуточку умнее, верный хранитель Шварценгрюндена, вы бы сами поинтересовались, что это за «Святая Джозефина». Тем более что всякие святые — Стефании, Джозефины и прочие — по вашей части. Впрочем, черт с ним, впустите этого Кшиштофа. Вдруг он что-нибудь знает о Гяуре.
— Я подумал о том же, — тяжело просопел де Куньяр. — Что ни говори, а Кшиштоф все же поляк.
— Но если окажется, что и этот прибыл по совету новоявленных братьев рыцарского ордена тамплиеров, — сбросьте его со стены, — остановила она управителя замки уже около двери.
— Кто только не оступался на стенах нашего богоугодного замка, — пожал могучими, затянутыми в куртку из толстой кожи, со множеством кольчужных побрякушек, плечами де Куньяр.
Графиня отложила в сторону план замка и, подойдя к камину, несколько минут стояла над ним, глядя прямо в огонь и грея озябшие пальцы. Весна в этом году была затяжной. Она то одаривала теплом, то вновь буранила так, словно вот-вот должны были вернуться рождественские морозы. Однако это не помешало Диане оставить более теплый и уютный дворец графа де Корнеля в Париже и прибыть на несколько дней сюда, в мрачный Шварценгрюнден.
Бывали времена, когда интерес Дианы де Ляфер к тайнам тамплиеров резко угасал, однако каждый раз случалось нечто такое, что заставляло ее вновь и вновь обращаться к святилищам этого ордена. Причем привлекала ее не столько возможность обнаружить сокровища, сколько сами авантюры, связанные с их поиском.
Вот и недавно один из архивариусов короля, с которым графиня завязала небескорыстную дружбу, неожиданно представил ей доклад некоего тайного осведомителя короля Филиппа Красивого, одного из тех, кто в течение двух лет выслеживал высших руководителей ордена, составляя для будущих следователей по их делу тайное досье. Так вот, в этом докладе ясно было сказано, что определенная часть сокровищ все же припрятана тамплиерами в замке Шварценгрюнден. Это был неприкасаемый запас ордена на тот черный день, в пришествие которого магистр его и казначей ордена не верили, но к которому тем не менее готовились.
«Видно, так уж прокляты мы судьбой — всю жизнь гоняться за сокровищами тамплиеров», — извиняющимся тоном сообщила она супругу, от которого уже не считала необходимым скрывать свое пристрастие.
— Если вы войдете в историю Франции как открывательница величайшей из ее тайн, это не оскорбит ни меня, ни род Корнелей, — со свойственной всякому дипломату вычурностью смирился с ее причудой помощник министра иностранных дел.
Он давно понял, что семейная жизнь их не удалась, и был рад, что фантазию его прелестной супруги куда больше занимают исторические авантюры, нежели амурные истории. И считал, что должен быть признателен ей за это. Он ожидал худшего. Особенно с тех пор как во Франции находился князь Гяур.
* * *
Кшиштофу было около тридцати пяти. Среднего роста, худощавый, жилистый, с грубоватым обветренным лицом — он и впрямь смахивал на одного из тех морских бродяг, которых Диане не раз приходилось видеть в портовых городах Франции и Польши и по отношению к которым берег оставался таким же неприветливым, как и море.
— Как вы осмелились явиться сюда? — сурово спросила графиня, все еще стоя у камина и лишь слегка повернув лицо к вошедшему.
— У меня не было иного выхода. То, что меня привело к вам, могло привести только к вам. Никто иной помочь мне в этом деле не сможет.
— Откуда вам известны мое имя, мой замок? И вообще поторапливайтесь, у меня не так много времени, чтобы терять его на всякого проходящего мимо замка Шварценгрюнден скитальца.
— Лучше всего мне было бы увидеться с князем Гяуром.
— Он — в Польше. Несмотря на то, что всем кажется, что он все еще здесь — за этими стенами. Что еще?
— Но даже если бы мне пришлось увидеться с генералом, все равно я искал бы возможности поговорить с вами.
— Шевалье, принесите вина. — Графиня подошла к столу, с сожалением взглянула на так и не открывшийся ей план замка и, свернув его, отложила на небольшой, стоявший на окне, сундучок, в котором этот пергамент хранился.
Вино было принесено, де Куньяр, не спрашивая разрешения, уселся за стол рядом с моряком и наполнил все три бокала.
— Мне казалось, что нравы этого замка куда суровее, — почти залпом выпил свое бургундское Кшиштоф. — Какое приятное заблуждение!
Вино сразу же взбодрило моряка и сделало в его глазах хозяев Шварценгрюндена значительно приветливее, чем они были на самом деле.
— Вам это пока еще не показалось, — задумчиво ответила Диана. — О суровости судят не тогда, когда входят в этот замок, а когда настает пора прощаться.
— Буйством океана меня не удивишь.
— Налейте ему еще вина, Куньяр. Но этот бокал — последний. Поэтому советую не увлекаться. Вы поняли меня, адмирал трех океанов?
— Я оставлю ваш замок раньше, чем будет наполнен очередной бокал. Совет моряка: не будьте столь строгими с людьми, которые ищут встречи с вами. Позвольте спросить, графиня: вам знакомо такое имя — дон Морано? Командор дон Морано.
Диана откинулась на спинку кресла и с минуту сидела молча, глядя в пространство перед собой.
— Если не ошибаюсь, на корабле этого командора Гяур содержался в качестве пленника. Но вы могли бы и сами уточнить, кого имеете в виду.
— Очень важно, что вы знаете, о ком идет речь. Теперь нам легче вести разговор о главном. Вы давно знакомы с князем, принимали участие в его освобождении. Нельзя исключить того, что во многих вопросах он был откровенен с вами…
— Не пытайтесь выглядеть оракулом, мой все еще не повешенный на рее. Наша откровенность — вопрос особый.
— Не говорил ли он вам что-нибудь об Афронормандии?
— О чем?!
— Дон Морано иногда условно называл эту землю Афронормандией. Но генерал Гяур мог и не запомнить названия. Имеется в виду затерянный где-то в Западной Африке клочок земли, хорошо защищенный от любопытных самой природой, богатый золотом и серебром. Дон Морано побывал в этом затерянном раю еще будучи пиратом.
— Я не собираюсь отдавать вас полиции, внебрачное дитя Веселого Роджера, — сурово перебила его Диана. — Однако хотелось бы, чтобы и вы не очень-то злоупотребляли моим терпением.
— Под килем вас протягивать не станут, — прогромыхал истрепанной гортанью, молчавший до этого главный стражник Шварценгрюндена. — Но у нас в замке существуют свои собственные забавы.
— Вы сбиваете меня с толку, господа. Совет моряка: выслушайте до конца. Вы — люди того же склада характера, что и я, а потому сумеете понять старого бродягу. К моменту своей гибели дон Морано оставался последним, кто знал секрет Афронормандии. Как туда плыть, где высаживаться, как проходить по рекам и все такое прочее. Понимая, что так и уйдет со своей тайной в могилу, командор решился на отчаянный шаг — доверил ее своему врагу, князю Гяуру. Естественно, вначале он хотел склонить князя к тому, чтобы тот поднял над захваченным им судном пиратский флаг и отправился вместе с ним к берегам Африки. Но Гяур — человек на море совершенно случайный…
— Дон Морано погиб от рук Гяура?
— Можно считать, что да. По крайней мере по тем рассказам, которые мне пришлось выслушать.
— Тогда вполне может быть, что командор и в самом деле доверил ему некую тайну. — Кшиштоф мгновенно уловил, что отношение Дианы де Ляфер и к нему, и к Афронормандии резко изменилось. Вместо ироничности голос ее теперь источал заинтересованность и соучастие. — Но я об этом ничего не знаю, что совершенно непростительно для князя. А сам он, как вы уже поняли, вновь пребывает в диких азиатских степях Украины. В лучшем случае — в окрестностях Варшавы. Что прикажете делать?
— Похоже, что мне придется отправиться в Польшу, — решительно поднялся моряк. — Тем более что зов моей польской крови уже давно требует этого…
— Погодите вы со своим «зовом крови»… — поморщилась графиня. — Вам не кажется, что следовало бы ответить еще на несколько вопросов, коль уж вы явились сюда и разбередили мою душу всяческими фантазиями. Ну-ка, в нескольких словах… Что это за таинственная земля, Афронормандия? Только поподробнее, внебрачный сын вице-короля всех заморских территорий, поподробнее.
Теперь уже Кшиштоф сам налил себе вина и, метнув на шевалье де Куньяра победный взгляд, которым пытался отомстить за все те унижения, коими страж замка подверг его у ворот, принялся рассказывать обо всем, что ему удалось узнать от одного моряка. Сам этот скиталец морей хотя и не побывал на Земле Командора, но какое-то время ходил вместе с ним под Веселым Роджером, а затем, тоже вместе с командором, перешел на службу к испанскому королю. Дон Морано рассчитывал на этого моряка как на будущего штурмана корабля, который он снарядит в Афронормандию, тем не менее географические секреты этого путешествия предусмотрительно не открывал, опасаясь, как бы каравелла не уплыла без него.
Конечно, окажись этот моряк рядом с командором в последние минуты его жизни… Но рядом оказался князь Гяур, к которому дон Морано неожиданно воспылал особой симпатией. Кое-что знал об «африканском рае» и капитан Хансен.
— Позвольте, не тот ли это Хансен?
— Который командует сейчас кораблем «Гяур», захваченным князем у испанцев? Не ошиблись, тот самый. Скажу больше: потрясенные храбростью полковника принц де Конде и один из французских генералов добились того, что корабль был объявлен собственностью князя. Капитану Хансену даже удалось оформить это приобретение у нотариуса.
— Но тогда получается, что у нас есть свой корабль?! — не удержался де Куньяр.
— Свой корабль теперь есть у князя Гяура, — вежливо уточнил Кшиштоф.
— Вы уверены, что теперь этот корабль — действительно собственность князя? — не стала графиня обращать внимание на нюансы их деликатного спора.
— Не уверен только, что сам князь Гяур догадывается об этом. То есть в общих чертах он был уведомлен, однако вряд ли знает, что все уже оформлено через одну из нотариальных контор. От его имени.
Графиня недоверчиво рассмеялась и, прикусив губами кончик пальца, надолго задумалась. Шевалье знал авантюризм своей хозяйки и понимал, что сейчас в ее милой головке рождается такой план, какой, возможно, в сонном бреду не мог бы померещиться самому отъявленному морскому прощелыге. Опасаясь буйности этого плана, шевалье как бы между прочим проворчал:
— Важно, что нам не понадобится захватывать этот фрегат, или чем он там числится, коль уж он, так или иначе, принадлежит князю Гяуру.
6
Тимошу Хмельницкому позволили провести отца только за окраину Бахчисарая. Все это время отец и сын ехали рядом, но полковник молчал. То, что он мог сказать заложнику своего замысла, он уже сказал. А что не в состоянии был высказать — даже не пытался.
— Ты — воин, — сурово молвил он, почувствовав, что пора прощаться. Державшиеся чуть поодаль два воина из охраны хана приблизились к ним, давая понять, что одному следует остановиться и что с этой минуты младший Хмельницкий, по существу, арестован. — Все мы там, на Сечи, в Украине, будем помнить, что ты здесь. И что если бы не ты, мы не получили бы поддержки хана, а значит, не смогли бы начать войну против Польши.
— Ты уже говорил все это, — с мальчишеской непосредственностью напомнил ему Тимош.
Первая волна страха и грусти, охватившая парнишку, как только он узнал, какая роль выпала ему, прошла. Беседы с отцом — суровые беседы воинов — тоже не прошли зря, и теперь он старался держаться так, чтобы морально чувствовать себя увереннее, чем отец. И полковник заметил, что иногда ему это, к сожалению, удавалось. Правда, сын даже не догадывался, что это его вызывающее спокойствие воспринимается отцом как самый изощренный упрек.
— Говорил, — мрачно согласился полковник. — Но не сказал главного: никогда не прощу себе того, что оставил тебя здесь.
— Когда ты посылаешь казака на мученическую смерть, чтобы он сдался врагу, а потом, под пытками, под страшными издевательствами, сказал то, что ему было велено сказать, то есть неправду, — тоже не прощаешь себе?
— Причем здесь это? — нервно передернул плечами полковник. — Там война. Он — воин…
— И сейчас уже идет война. И я — такой же воин, как и все. Просто чужого посылать на гибель легче.
Полковник удивленно посмотрел на сына. Ему показалось, что тот повторяет уже сказанное кем-то. Это слова с чужих уст. Но с чьих? Однако Тимош спокойно выдержал его взгляд.
— Ты прав: чужих посылать на смерть легче, и в этом скрыта лютая правда, — признал полковник, потупив взгляд. — Только ни одному воину еще не приходило в голову упрекать в чем-то подобном своего отца, какими бы полками или армиями он ни командовал.
— Я тоже не упрекаю.
— Мне казалось… что ты не решаешься пока что думать так…
— Знаешь, идя на смерть, я не стану проклинать тебя. Приму ее, как принимают все казаки. Поэтому не мучай себя. Еще один казак ушел к врагу, чтобы погибнуть во славу казачью… Что в этом необычного?
— Прекрати! — вдруг сорвался полковник, замахнувшись на сына плеткой. — Что ты несешь?! Я не оставляю тебя здесь на погибель! Это дипломатия! Так заведено! Я спасу тебя! Тебя никто не посмеет тронуть!
Тимош еще несколько секунд спокойно смотрел на отца, затем медленно развернул коня и, протиснувшись между татарами из охраны, помчался в сторону Бахчисарая. Татары еще немного покрутили лошадьми «чертову мельницу» и со свистом, с гиканьем помчались вслед за ним.
Глядя им вслед, Хмельницкий не заметил, как княгиня Стефания вышла из кареты и вскочила на шедшего рядом оседланного коня. Зато проследил, как она на полном аллюре промчалась мимо него, обогнала сбавивших темп татар и уже у первых татарских лачуг догнала Тимоша.
Преградив парнишке путь, она перекрестила его, проговорила что-то молитвенно-благословенное на своем непонятном языке и, потянувшись к нему, по-матерински чмокнула в лоб.
— Прости, Тимош, — молвила она по-польски с сильным акцентом. — Я всего лишь сделала то, что забыл сделать твой посуровевший в походах отец.
Уже давно скрылся из виду Тимош и сопровождавшие его татары. Скрылась окраина Бахчисарая. Однако полковник и княгиня, ехавшие теперь стремя в стремя, по-прежнему оглядывались и оглядывались. И полковник все яснее ощущал, что по каким-то непонятным ему нравственным законам сын, получивший благословение этой прекрасной, но чужой им обоим женщины, стал тем звеном, которое объединяло их теперь. Всех троих.
— Я попросила князя Тибора, чтобы он присмотрел за вашим сыном, полковник. И на обратном пути, из Стамбула, если только…
— Спасибо, княгиня. Но только вы же видели: этот юный воин, — проговорил он с гордой обидой, — уже не нуждается не только в материнской опеке, но и в отцовской.
— Поскольку слишком мало знал материнской? — вопросительно взглянула на него Стефания. Впереди них мерно покачивалась в седле необъятная, облаченная в кольчугу, спина телохранителя Карадаг-бея, позади безлико возникали тени еще двух воинов-татар, которых сераскир ханских войск дал Хмельницкому и княгине для сопровождения.
Как-то так получилось, что татары сразу же оттеснили ее от своих подопечных воинов-славян, решив, что до тех пор, пока не достигнут Перекопа, охрана должна быть возложена только на них. Чехи и украинцы не протестовали: как-никак татары шли по своей земле.
— Вы правы: слишком мало… — задумчиво согласился Хмельницкий. — Зато вырастает отличным воином.
— В том-то и трагедия, что мы, матери, давно перестали растить сыновей. Растим только воинов. В этом заключается величайшая трагедия каждого из наших народов.
— Вы сказали: «Мы, матери…»
— У меня сын и дочь. Оба под попечительством моей бездетной сестры. Я не видела их уже несколько лет. Это непросто, а главное, непростительно. — А, немного помолчав, она добавила: — Теперь, надеюсь, нам легче будет понимать друг друга.
— Наоборот, сложнее. Мне иногда кажется, что, чем больше мы с вами узнаем друг о друге, тем сложнее понимаем себя.
— В этом что-то есть, — по-детски пощелкала языком княгиня.
Хмельницкий в последний раз оглянулся, мысленно прощаясь с сыном. Сколько времени пройдет, прежде чем удастся увидеть его? Стефания права, это будет непросто. Еще несколько минут они ехали молча, как бы определяя грань, за которой оставалась скорбь прощания и начиналась светская беседа людей, коим предстоит не только вместе провести несколько походных дней, но и многое обсудить.
— Вы не сердитесь на меня за вчерашнее вторжение? — неожиданно молвила княгиня.
— Если бы не прощание с сыном, разговор о том, вчерашнем, должен был бы начать я. С извинений.
— Я, конечно, соврала, что оказалась в вашей опочивальне случайно.
Хмельницкий вспомнил, с каким испугом он взглянул на неожиданно появившуюся в дверях княгиню. И как сожалел потом, что рядом с ним оказалась не Стефания, а эта грузинка наложница. Слов нет, красивая, ослепительная женщина. Но… не Стефания.
— Стоит ли сейчас вспоминать об этом, княгиня? Всего лишь осколок мужской походной жизни.
— Об этом невозможно не вспоминать.
— С сожалением?
— И с сожалением — тоже. Первая ночь в моей жизни, когда я позавидовала наложнице. — Княгиня наигранно рассмеялась, не прощая самой себе собственной слабости. — Я — и вдруг позавидовала наложнице, рабыне! Вот, оказывается, как жизнь способна наказывать гордых княгинь, если молодость их давно прошла, а чувства с годами не притупились.
— Судя по тому, сколь откровенно мы говорим о таких вещах, молодость наша действительно прошла. Причем это больше касается меня, нежели вас, княгиня.
— Вы не должны были подтверждать мои слова, — с легкой грустью упрекнула его Бартлинская.
— В этом странствии мне еще многому предстоит научиться.
— Еще бы! — загадочно согласилась Стефания.
7
По каменным ступеням, ведущим на верхний ярус башни, мурза Тугай-бей поднимался, словно на эшафот. Неспешные тяжелые шаги, усталый обреченный взгляд, высматривающий синий квадрат бойницы; могильный холод заиндевевших каменных стен, погребавший его в свое гулкое безмолвие словно в вечное спокойствие склепа.
Эта башня давно стала для стареющего перекопского мурзы своеобразной меккой. Он поднимался сюда почти каждое утро и перед каждым закатом солнца. И никто не знал, какая мечта и какая тоска приводили его сюда. О чем он вспоминал здесь, что проклинал и на что молился.
«Башня старости» — как начали называть ее во дворце правителя — хранила тайну мурзы, как свою собственную. Солнечные лучи и морозы обжигали слова и мысли Тугай-бея, превращая их в дыхание вечности.
Поднявшийся вслед за мурзой стражник воткнул факел в специальную нишу в стене и замер, держа под мышкой небольшое, обшитое кожей походное кресло правителя. Он выжидал, пока Тугай-бей подойдет к одной из бойниц.
Да, в этот раз мурза вновь приблизился к той, что уводила его взор на юг, в Крымскую степь. Стражник поставил кресло так, чтобы мурза мог смотреть в этот разлом крепостного мира, и, поклонившись, отошел. Второй стражник тотчас же укутал правителя в овечий тулуп — и оба спустились ярусом ниже, чтобы дожидаться там распоряжений повелителя.
Всю жизнь взоры Тугай-бея были устремлены на север, туда, где начинались земли Дикого поля, где на краю степи утопали в зелени сытные украинские села и богатые польские поместья. Бывало, совершал походы, во время которых едва не достигал Вислы. Имея весьма незначительное по численности войско, мурза водил его в чужие земли с бесстрашием и целеустремленностью великого Саин-хана [5]. Не раз возвращался с очень богатой добычей. Но случалось и так, что едва доводил остатки своих туменов до спасительного Перекопа.
Всякое бывало на его воинском веку. Однако суть не в этом. Только сейчас Тугай-бей со всей ясностью начал осознавать, что на самом деле воинский путь его должен был пролегать не на север, а на юг. Конечно, хакан Крымского улуса почитал за честь видеть его во время походов во главе своего передового отряда. О Тугай-бее гуляла слава как об очень талантливом полководце, которым гордился бы даже Стамбул.
Но все же этого мало. По крайней мере дважды у него была реальная возможность войти со своими аскерами в Бахчисарай, чтобы раз и навсегда положить конец вражде между правящими кланами столицы. Он, именно он, имел куда большее право на крымский престол, нежели владычествующий ныне Ислам-Гирей, изгнанный им хан Кантемир или неугомонный в своих авантюрах и интригах Джанибек-Гирей.
Тугай-бей не мог простить себе, что не воспользовался ни одной из этих возможностей, не создал еще пяти-шести ситуаций, при которых мог бы оказаться во главе ханства. И правители чувствовали это. Посылая его аскеров во главе войска, они знали, что меньше всего возвращается из сражений тех, кто вступает в них первыми. И кто потом первыми принимает на себя удар врагов на степных границах ханства. Ослабляя его войска, ханы тем самым укрепляли свою уверенность, свой престол. Они правили, а он, Тугай-бей, храбрейший из храбрейших, так и продолжал оставаться их вечно опальным вассалом. И дожил до своих предсмертных дней сторожевым псом Перекопа. Вроде бы еще и не стар, но болезни, проклятые болезни…
— Повелитель, позволь прервать поток твоих глубоких мыслей.
— Говори, — приказал Тугай-бей после тягостной паузы, которая действительно понадобилась ему, чтобы вернуться из блужданий по лабиринтам оскорбленной памяти.
— В твой город вновь прибыл полковник Хмельницкий.
Тугай-бей медленно, натужно повернулся лицом к своему полководцу Сулейман-бею. «Какой еще полковник?! — тоскливо вопрошал его взгляд. — Чего вы все хотите от меня?!»
— …Из Запорожья, из Украины, — напомнил Сулейман-бей. — Из ставки атамана Запорожской Сечи.
— Значит, хан не принял его?
— Принял. Сын Хмельницкого оставлен в Бахчисарае заложником.
— Заложника хан у себя оставил, однако войск не дал, — проскрипел зубами Тугай-бей. — Потому что знает, что это война с Ляхистаном, а значит, король Владислав сразу же обратится к правителю Стамбула.
— Но заложник уже взят, благороднейший мурза. Он взят, и отступать от своего слова хан не привык.
Мурза поднялся со своего неуютного седалища и, приблизив лицо к бойнице, принял на себя порыв холодного влажного ветра. Того самого «ветра с юга», всегда приносившего с собой ностальгическое раскаивание по тому, что не сбылось и уже никогда не сбудется.
— Здесь, во владениях моих предков, повелеваю только я. Воля хана для меня не больше, чем воля хана, Сулейман-бей.
— Никто не способен оспаривать это ваше право, повелитель. Я всего лишь сказал, что нам выгоднее вести свои тумены вместе с полками Хмельницкого. Зачем добывать кровью аскеров то, что может быть добыто кровью самих неверных?
— О, да ты уже воспылал походной страстью, Сулейман-бей! — насмешливо молвил мурза. — Уже учуял след добычи. Теперь тебя ничто не остановит. Как волк, будешь тащиться за жертвой через всю степь, через тысячи миль, только бы настигнуть ее. И ничего в этом мире, кроме запаха крови твоей жертвы, для тебя уже не существует.
Сулейман-бей удивленно смотрел на мурзу. Взгляд его постепенно застывал, словно сок на свежих срезах оливы. Тугай-бей знал, что за внешней невозмутимостью его полководца и начальника дворцовой охраны таится неудержимая лавина гнева, способная разверзнуться словно огненная лава в давно застывшем кратере Кара-Дага. Когда маска молчаливого многотерпения сходила с его лица словно ледник с Караби-яйлы [6], оголяя целые камнепады ненависти и злобы на все живое и неживое в этом мире, Сулейман-бей не признавал никого и ничего. Он попросту не способен был что-либо осознавать и признавать. Не зря же по селениям Перекопа гуляла мрачная поговорка, что «в порыве ярости Сулейман-бей способен перегрызть глотку самому себе». Похоже, что так оно на самом деле и было.
— Никогда не поверю, повелитель, что вы осуждаете вожака своих степных шакалов за то, что он все еще не потерял нюх и силу, — почти простонал Сулейман-бей, покачивая при этом высоко запрокинутой головой.
— Просто ты слишком напоминаешь меня самого, чья жизнь тоже прошла в шакальих набегах.
— Но мы — татары, повелитель! Мы — воины и кочевники. Нам предначертано так самим Аллахом.
— Только потому, что так предначертано самим Аллахом, я и пошлю тебя во главе своих аскеров вместе с полковником Хмельницким, Сулейман-бей. Мы не были бы татарами-уланами [7], если бы позволили нашим саблям ржаветь и облипать жиром в кожаных ножнах.
Сулейман-бей воинственно расправил плечи и, положив руку на эфес своего ятагана, торжествующе рассмеялся:
— Мы пойдем на Уруссию, повелитель. Мы поможем им разжечь большую войну. И пока они будут уничтожать друг друга, мы будем отправлять караваны с добром в Перекоп.
— А когда ослабнут, перенесем столицу Перекопа туда, где сейчас находится их казачья Сечь, — то ли в шутку, то ли всерьез поддержал его мурза.
8
В тот вечер графиня де Ляфер так и не раскрыла своего замысла. Моряк был накормлен, ему предоставили отдельную комнатку, однако ночь он, судя по всему, провел не самую спокойную, чувствуя себя человеком, у которого выведали великую тайну, расплатившись всего лишь ночлегом да сытным ужином. Скудновато. Не для этого он добирался сюда из Дюнкерка. Не ради этого оставил службу на «Святой Джозефине». Он поставил на карту многое, но пока что не ясно было, собираются ли с ним играть по каким-то более или менее приемлемым рыцарским правилам.
Утром они вновь собрались втроем, за тем же столом, и если вместо красного вина слуга в этот раз принес белое — из этого еще ничего не следовало.
— Допустим, вы сумели разыскать князя Гяура… — возобновила прерванный разговор Диана де Ляфер. — Уверены, что он откроет вам тайну Земли Командора?
— Совершенно не уверен.
— Именно поэтому вы и обратились ко мне, любимец Нептуна? — улыбнулась графиня одной из тех своих улыбок, после которой самоубийство уже не кажется собеседнику чем-то из ряда вон выходящим. — Прекрасно зная, что генерала Гяура вы здесь не встретите.
— Не думаю, чтобы человек, который советовал мне обратиться именно к вам, ошибался. Если бы генерал и решился снарядить подобную экспедицию, то только по вашему совету. В то время как вы могли бы снарядить ее сами, для этого вы достаточно богаты и влиятельны. И советоваться по этому поводу с князем Гяуром вам ни к чему.
— Какой же вы неисправимый наглец, — незло констатировала де Ляфер.
— У меня нет иного выхода. С той поры, как мы с капитаном Хансеном стали совладельцами — скажем так — тайны Афронормандии, эта земля не дает нам покоя. А ведь расположена она сравнительно недалеко. Не нужно пересекать океаны. Идти можно вдоль берега, что довольно безопасно.
— Если не принимать во внимание прибрежных корсаров, которых полно на всем отрезке пути от Кале — вплоть до Земли Командора.
— Но корабль можно хорошо вооружить. Взять на борт роту охраны, с ружьями и луками, — неожиданно взревел шевалье де Куньяр. И Д? иана вынуждена была с подозрением взглянуть на стража замка, понимая, что этот златолюбец уже успел загореться идеей похода и в очередной раз заболеть кладоискательской лихорадкой.
— К тому же судов может быть несколько. Когда мы снарядим «Гяура», найти соратников окажется не так уж трудно, — подхватил его мысль Кшиштоф. — Конечно, по пути можно было бы захватить еще какое-нибудь корытце, однако не хотелось бы начинать святое дело с пиратства. Хотя никто не помешает нам в любое время поднять над кораблем тот флаг, какой подвернется под руку.
— И кто докажет, что корабль, который мы захватили по пути, не напал на нас первым?! — потряс кулачищем де Куньяр.
— Вижу, ночь не прошла для вас зря, досточтимые заговорщики, — насмешливо смерила княгиня взглядом их обоих. — Успели кое-что обсудить без меня?
Кшиштоф виновато покосился на шевалье. Тот расправил богатырскую грудь и принял вину на себя.
— Так, в общем… испепели меня молния святого Стефания. Поговорили по-мужски… Дело-то серьезное. И ясно, что вести корабль придется не вам, графиня…
— Мы вот о чем подумали. У вас есть доступ к кардиналу Мазарини, — вновь перехватил инициативу моряк. — Французская казна пуста, а войну на море мы вроде бы все равно проиграли. Кто запретит первому министру выделить хотя бы один военный корабль для участия в нашей экспедиции? Королева тоже возражать не станет.
— …Если уж так решит кардинал Мазарини, — почти механически подтвердила графиня. — А вас, значит, послал ко мне капитан Хансен, верно я поняла?
Кшиштоф немного замялся.
— Капитану не хотелось, чтобы здесь ссылались на него. Он обязан выполнять только волю владельца корабля. Вы ведь понимаете… Если Гяур заподозрит его в склонности к пиратству…
— …Которое у фризов, как и у норманнов, в крови. Ну да бог с ним. Зато теперь твердо знаю, что опытный капитан у нас уже имеется.
— Штурман — тоже, — ткнул шевалье пальцем в плечо Кшиштофа. — Лучшего боцмана, чем я, вам все равно не найти. Команда будет у меня вот здесь, — сжал кулачище с такой силой, словно пытался выжать воду из куска базальта. — Год на королевском флоте я все же прослужил.
Моряк удивленно взглянул на шевалье де Куньяра, затем на графиню.
— Так вы… согласны?! Я могу сказать об этом капитану?!
— Пока что можете сказать ему, что нас заинтриговала Афронормандия командора. Но не более того, — охладила его пыл де Ляфер. — Мы с вами еще довольно смутно представляем себе, что это за земля, какой от нее толк? Как добираться до ее берегов и с какими племенами придется сражаться за нее? Наконец, каковы там условия жизни.
— Вы перечислили все то, что интересует капитана Хансена и меня, — возрадовался Кшиштоф. — Поэтому уверен, что мой визит оказался не напрасным. Совет моряка: сделайте, госпожа графиня, так, чтобы это африканское путешествие в конце концов состоялось.
9
Хмельницкий вновь был поражен той убогостью, которую представляла собой крепость Ор-Капи. Невысокие глинобитные стены, кое-где уже основательно подернутые трещинами и отмеченные обвалами, полузасыпанные рвы, заваленные отбросами переходы…
Однако Тугай-бей, казалось, не замечал всего этого. Он показывал Хмельницкому свой город, свою крепость и свои владения с величественной щедростью правителя, у которого нет никаких секретов от союзника, словно дарил ему все это.
— Я не уверен, что ваша крепость готова хоть к какой-нибудь серьезной осаде, — позволил себе иронично заметить полковник.
— Но и не много известно случаев, когда кому-либо удавалось взять ее, — в том же ироничном тоне ответил мурза. — Если какие-то войска и прорывались в Крым, то лишь обходя Ор-Капи, — спокойно воспринял он выпад Хмельницкого. — И потом, к чему я должен готовить ее? Получив на северных землях союзника, перед которым трепещет даже Ляхистан, я вообще могу разрушить эти стены. Разве что первый удар вы решили нанести именно по Перекопу, а, полковник? Не таитесь. Помните, как говаривали наши предки: «Иду на вы!».
Хмельницкий помнил, что это относилось лишь к его славянским предкам. Однако огорчать татарина он не стал. Приятно удивило уже хотя бы то, что мурзе известен этот рыцарский вызов.
Трое суток прошло с тех пор, как Хмельницкий и княгиня Бартлинская появились в этом городе, прежде чем он сумел пробиться к мурзе. Лишь когда полковник приказал своей свите готовиться в дорогу и распустить слух о том, что глубоко обиженный Хмельницкий решил оставить Перекоп, не дожидаясь встречи с правителем, появился посыльный мурзы. С истинно восточным радушием он объявил, что светлейший Тугай-бей, да продлит Аллах счастливые дни его, наконец-то вернулся с охоты и очень обрадовался, узнав, что в его владениях находятся столь высокочтимые гости.
— Вот уж не думала, что к перекопскому мурзе труднее попасть, чем к крымскому хану, — ослепительно улыбаясь, молвила по этому поводу Стефания, в присутствии которой происходил весь этот обряд «приглашения к испробованию яда».
Хмельницкий признал, что сказано это было слишком смело и даже опрометчиво. Тем не менее про себя добавил, что чем мизернее чиновник, тем выше ценит он свое время и свое спокойствие.
Впрочем, полковник понимал, что Тугай-бей не подпускает его к себе не из-за чванства чиновников. Слишком обязан ему этот человек, чтобы вот так, по глупой прихоти, уклоняться от встречи. Скорее всего, правитель Перекопа выжидал, выясняя, чем закончилась встреча казачьего атамана с Ислам-Гиреем.
— Осматривая эти стены, я мысленно вижу мощные укрепления Кодака, — ответил Хмельницкий. Теперь уже была его очередь сдерживать выпад мурзы. — Надеясь при этом, что польскую крепость мои воины будут штурмовать вместе с аскерами правителя Перекопа.
Тугай-бей торжествующе улыбнулся: «Теперь ты конечно же станешь просить воинов? — мог вычитать в ней полковник. — Но получить у меня войска не так-то просто…»
— А что же наш светлейший хан?
— Он был очень гостеприимен и любезен.
— Настолько, что отказал в том, ради чего вы прибыли в Крым — в военной помощи.
— Если я верно понял, он очень хорошо осведомлен о нашей с вами дружбе. В том числе — о вашей поездке на Сечь, — деликатно напомнил Хмельницкий мурзе о тех истинных основах их дружбы, которые были заложены в дни, когда в роли просителя выступал он, могущественнейший мурза Ор-Капи.
— Хан решил воевать только саблями перекопцев? — едва сдерживал гнев Тугай-бей. — Понятно: чем слабее правитель Перекопа, тем увереннее чувствует себя Бахчисарай.
— Не берусь судить о ваших взаимоотношениях, светлейший. Но откровенно рассчитываю на нашу дружбу.
— Войска посылает не дружба, а мудрость. Чем дальше видит правитель, тем большим по численности своей становится войско, которое он посылает своему союзнику.
Хмельницкий догадывался, что это пока еще не окончательный ответ. Но уже кое-что.
Несмотря на свой откровенно убогий вид, крепость все же оставалась довольно внушительной. Широкий ров, пристройки и небольшие крепостные замки, которые усиливали мощь стен и создавали дополнительные очаги обороны; турецкие крепостные орудия, бомбардиры которых не ощущали недостатка в разрывных и каменных ядрах… А главное — мощный гарнизон, усиливаемый, в случае войны, жителями всех окрестных селений. Хмельницкий помнил, что, при любой серьезной опасности, здесь, на довольно узком перешейке, в течение двух дней мурзе удавалось собирать целую армию.
— Я знаю вас, Тугай-бей, как правителя, который умеет видеть значительно дальше, чем летят стрелы его воинов, — молвил Хмельницкий, завершая этот осмотр и давая понять, что хотел бы вернуться к переговорам о военном союзе. Но мурза вновь ушел от окончательного ответа.
Вернувшись во дворец, они еще почти час разговаривали о степной охоте, которая становится все скуднее; о донских казаках, которые, побаиваясь нападать на кавказцев, все чаще обращают свои взоры на Крым; о ситуации, которая складывается при дворах польского короля Владислава IV и султана Высокой Порты… Однако полковник понимал, что эта их встреча, по существу, так и завершится ничем. Тугай-бей все еще чего-то выжидает, что-то взвешивает на весах своей политической дальновидности и восточного коварства.
И лишь когда Хмельницкий стал прощаться, мурза не выдержал.
— Вы, полковник, так и не поинтересовались, как чувствует себя мой сын.
— Мой сын Тимош не раз сожалел, что у него нет возможности принять вашего сына, — проговорил гость, поднимаясь из-за богато сервированного стола. — Извините, если вас очень удивило, что я не поинтересовался, как поживает Султан-Арзы.
— Что вы, полковник, меня «очень удивило» бы, если бы вы поинтересовались этим, — хитровато оскалился мурза. — У вас достаточно такта, чтобы не напоминать старику отцу о спасении его сына, а следовательно, о долге, который за ним числится.
Теперь они рассмеялись вдвоем. Тугай-бей был доволен, что точно понял смысл недомолвок своего гостя и что тот простодушно признался в них. А заодно раскрыл причину той напряженности, что царила во время их сегодняшней встречи.
— Здесь может идти речь только об одном долге — долге человечности. Но мне кажется, что завели вы о нем речь только потому, что пытаетесь выяснить, что произошло с моим сыном.
Тугай-бей немного замялся.
— Мне действительно сказали вчера, что в Бахчисарай вы направлялись с сыном. Хотя скрывали, что сопровождавший вас юноша — в? — аш старший сын.
— И вы послали гонца в столицу, чтобы выяснить, действительно ли хан оставил его заложником?
— Разве нашелся бы мурза, который бы не послал своего гонца выяснить, почему его друг попал в немилость к хану? И насколько глубока эта немилость. Но больше всего меня интересовало, почему вы до сих пор не попросили вступиться за своего сына. Мне казалось, что, прежде всего, вы будете заинтересованы в его скорейшем освобождении.
«Вот чего ты опасался, старый шакал! — безо всякой злобы подумал Хмельницкий. — Вот почему оттягивал встречу со мной. Ждал возвращения гонца, который сможет прояснить все то, что происходило при дворе хана. Точнее, не гонца, а своего постоянного, давно засланного тобой во дворец Ислам-Гирея осведомителя, человек от которого, очевидно, прибудет завтра».
— Мне, конечно, очень дорог мой сын. Но, во-первых, хан был весьма благосклонен и ко мне, и к нему. Сын-заложник — это скорее дипломатический прием, нежели результат каких-то дворцовых интриг. А во-вторых, как бы ни был дорог мне сын, я не могу отягощать наши отношения, могущественный Тугай-бей, попытками столкнуть вас с Ислам-Гиреем. Зная, что поводов для подобных столкновений у вас и так более чем достаточно.
Тугай-бей несколько мгновений стоял напротив Хмельницкого с полузакрытыми глазами, думая о чем-то своем или в чем-то сдерживая себя.
— Увидимся завтра, господин полковник, — наконец решился он. — Завтра мы оба сумеем понять все то, что пока не совсем ясно сегодня.
10
— Ни один атаман, который выступал против польского короля до тебя, победы над Речью Посполитой так и не увидел. Да, я допускаю, что ты все-таки победишь, — лицо Тугай-бея словно бы обтянуто куском изжеванной рогожи: обветренное, шелушащееся, сплетенное из кусков загрубевшей кожи, изрезанных глубокими почерневшими морщинами. — Но что ты станешь делать, как будешь вести себя после победы?
— Буду добиваться от короля Польши справедливых законов, по которым православный люд украинский имел бы те же права, что и поляки.
Мурза смеялся настолько громко и заразительно, словно услышал нечто такое, что способно было изумить его.
— Зачем тебе законы польского короля, Хмельницкий?! Если уж ты победишь польскую армию, то зачем тебе выпрашивать законы у сената, который эту армию посылал против тебя? Издавай свои собственные законы! Какие хочешь — такие издавай.
— Но я не король.
— Разве Владислав IV родился королем? Нет? И ты — нет. Так объяви себя королем. Собери свой украинский сейм, и пусть он объявит тебя царем, королем, падишахом, императором… Кто посмеет помешать? — накладывал Тугай-бей седые усы на гнилые зубы. — Есть земля — значит, есть народ. А есть народ — должен быть правитель. Это тебе Тугай-бей говорит… Только султаном не объявляй себя — стамбульский обидится. Лучше всего пусть тебя провозгласят Запорожским ханом.
С той поры, как Хмельницкий стал гостем перекопского мурзы, до серьезного разговора у них так и не дошло. Правда, после прошлой их встречи неожиданно подобревший Сулейман-бей угощал его у себя в старом дворце, а затем показывал стены новой загородной резиденции, строительство которой начал на берегу Сиваша. С самого начала она задумывалась как укрепленный замок, вокруг которого постепенно сформируется новый город, эдакий Сулейман-Сарай.
В этот раз все выглядело по-восточному щедро и гостеприимно. Хмельницкому и его людям кланялись и говорили возвышенные льстивые слова, со злорадством наблюдая при этом, как полковник нервничает, порываясь в покои мурзы. Теперь, когда его сын остался заложником Ислам-Гирея, пути к отступлению у Хмельницкого уже не было. Тем более что дело шло к весне, а к боям ни его войско, ни войско мурзы еще не было готово.
— В У? краине правители издревле называли себя великими князьями или же гетманами. Какой титул повелит мне принять войсковая старшина и казачий круг — тот и приму, — неожиданно резко ответил Хмельницкий, удивив этим мурзу. До сих пор полковник вел себя совершенно невозмутимо.
Тугай-бей допил чай, брезгливо отодвинул чашку и, упершись кулаками о ковер, на котором они, скрестив ноги, восседали, потянулся к Хмельницкому.
— Ты зачем прибыл ко мне, полковник? Тугай-бей тебя спрашивает.
«Наконец-то», — облегченно вздохнул Хмельницкий. Но прежде чем ответить сделал еще несколько глотков. Теперь он мог позволить себе поиграть мурзе на нервах.
— Слышал, что собираетесь в поход, досточтимый мурза. «Когда солнце приходит с юга, крымские кони устремляются на север» — так у вас говорят? Снарядите десять тысяч воинов. Я снаряжу сто тысяч. И мы вместе пойдем на Ляхистан.
Мурза насмешливо взглянул на полковника и недобро ухмыльнулся.
— Ты заманишь мои войска в степи и перебьешь их там во время первого же ночлега. А потом приведешь своих неверных под стены Перекопа и возьмешь его голыми руками.
— Если бы мне нужен был Перекоп, досточтимый мурза, я сидел бы сейчас за столом в королевском дворце Варшавы и ждал, пока Владислав IV снарядит против Крыма свое двухсоттысячное войско. А он только и ждет, когда я приду к нему с просьбой послать войска, поскольку считает позорным для себя платить дань крымскому хану. Не зря же договор, согласно которому Польша платила ее, король объявил несправедливым.
— Ни один правитель не считает дань справедливой. Но от дани освобождает не гонор, а сабля.
— К этому я и веду. Ваши войска, мурза, будут лишь свидетельством того, что Крым — с нами. А платой вашим воинам станет огромная добыча, которая ждет нас в богатых польских обозах и поместьях.
— Когда ляхи собираются на войну, они снаряжают такие обозы, словно отправляются на свадьбу, — вновь презрительно оскалился мурза. — Очень богатые обозы, ты прав, полковник, — и, мечтательно помолчав, добавил: — Десять тысяч воинов не дам. К тебе на Сечь придут всего четыре тысячи.
— Но этого слишком мало.
— Если мы будем тратить время на торги, мне придется согласиться только на две тысячи. И тогда тебе покажется это достаточным.
— Но этого мало, — почти простонал Хмельницкий, в отчаянии повертев головой. — С таким войском даже стыдно возвращаться на Сечь.
— Я воспринимаю твои слова, полковник, как молитву благодарности Аллаху, — продолжал добивать его мурза, воспользовавшись тем, что Хмельницкий возмущался на своем украинском. — Благодарности за то, что Аллах говорит мне: «Этот полковник, этот неправоверный гяур очень близок тебе по духу. Помоги ему, и, когда настанет время, он поможет тебе». А еще Аллах говорит мне: «У хана Крыма были все основания и возможности помочь этому воину, однако он не помог. У тебя же были все основания отказать ему в помощи, поскольку он обратился прямо к хану, а не к тебе, однако ты простишь ему это высокомерие. Если ты не поможешь ему, а он не станет помогать тебе, то кто же способен помочь вам обоим?»
«Вот так и заключаются тайные союзы, — подумал Хмельницкий, — о которых знают только двое. — Эти союзы прочны, поскольку не осквернены никакими официальными договорами и клятвами. К тому же им не страшен суд истории, для которой они недоступны, как недоступны тайные помыслы Аллаха».
— К слову, помогать вы станете мусульманину, поскольку, находясь в Турции, я принял ислам.
Полковник замер, ожидая, какой будет реакция мурзы, и был поражен, когда тот безразличным тоном ответил:
— Меня больше интересует то, что ты принял командование армией, состоящей из запорожских казаков, которые куда чаще были моими врагами, нежели союзниками, а также из украинских крестьян, которые куда чаще становились моими жертвами, нежели врагами, и у которых есть все основания не только ненавидеть меня, но и бояться.
— Аллах, как всегда, непостижимо мудр, — вежливо склонил голову Хмельницкий, отдавая дань уважения не только мудрости Аллаха, но и житейскому прагматизму Тугай-бея.
Полковник всегда презирал тех восточных правителей, что загоняли свои ум и волю в религиозные догматы; свои действия стреноживали путами суеверий, а дипломатический талант слишком уж расцвечивали восточной хитростью. До сегодняшнего дня Тугай-бей в его представлении оставался именно таким «восточным коконом» словоблудия. Но теперь отношение к нему изменилось, и полковник даже пожалел, что не решился встретиться с ним еще до поездки в Бахчисарай.
Он понимал, что мурза конечно же будет преследовать свои, и только свои интересы. Но уже сейчас ясно, что у них появятся общие тропы. И какое-то время они могут идти сообща, хотя и каждый к своей цели.
— То, что я встретился с ханом и получил его напутствие, облегчает нашу встречу и освящает наши решения. Поэтому я не стану оправдываться. Но признаюсь, что был неправ в другом. Я знал вас, мурза Тугай-бей, как великого воина. Однако слишком недооценивал как политика. Теперь у меня есть все основания раскаиваться по поводу своей недальновидности.
Тугай-бей подергал кончик уса — Хмельницкий уже заметил, что мурза делает это всякий раз, когда ему не терпится высказать какую-то важную мысль. Словно бы здесь, в правой части уса, скрывалась некая внутренняя, понуждающая к раздумьям и глубокомыслию сила.
— Мы, восточные правители, привыкли к лести. Она давно стала неотъемлемой частью не только придворного этикета и дипломатического церемониала, но и смыслом самой нашей жизни. Однако вы — европейский политик, и, как видите, я стараюсь вести себя с вами так, как принято вести себя европейцу с европейцем.
— Тем более что Крым трудно признать азиатским захолустьем.
— Перебивать восточных правителей во время беседы — тоже отличительная черта исключительно европейских послов и политиков, — невозмутимо заметил мурза. — Но сегодня мы отойдем от обид и церемониалов. Вынужден признать, что до нашей встречи в Диком поле я не только недооценивал вас, но и мало что слышал о таком полковнике. Правда, мне стало известно, что некий сотник, вернувшийся из Турции и принявший там ислам, возведен польским королем в генеральные писари реестрового казачества с дарованием ему чина полковника. Этого вполне достаточно для того, чтобы подослать наемных убийц и лишить казаков их нового полководца. Но совершенно недостаточно, чтобы зауважать этого самого полководца.
Появились две служанки с фигурами и движениями танцовщиц. На подносах, которые они опустили перед мурзой и его гостем, стояли кувшины с фруктовым напитком. Оба мужчины не удержались, чтобы не провести руками по бедрам девушек. Та, что прислуживала полковнику, задержала свой стан в почтительном изгибе и взглянула на своего повелителя. Уловив едва заметный кивок мурзы, она сразу же повернула свое полнолунное смуглое личико к Хмельницкому и плотоядно улыбнулась, давая понять, что нынешний вечер ему посчастливится провести не в занудных разговорах с заметно постаревшим и сдавшим мурзой, а в ее объятиях.
— И когда следует ждать десять тысяч воинов, которые прибудут на помощь моей армии? — вернулся полковник к тому, ради чего проделал долгий и трудный путь из Сечи до Перекопа.
— Мы формируем свои тумены значительно быстрее, чем вы — свои полки. К тому же мы не признаем обозов. У каждого воина есть лук, стрелы и несколько боевых коней.
— То есть я могу рассчитывать, что в марте, когда в южных степях Украины сходит снег, а ночи становятся достаточно теплыми, чтобы не разводить костров, ваш отряд присоединится к нам?
— Но придет не десять тысяч, а четыре, — резко молвил Тугай-бей, подчеркивая, что решение это окончательное и нет смысла его оспаривать. — Четырех тысяч воинов-татар вполне достаточно, чтобы своим свирепым видом, криками «алла-алла!» и изнуряющими обстрелами из луков привести поляков в ужас. Ведь мои воины нужны тебе в основном для этого, разве не так?
— Еще две тысячи казаков мы переоденем в вывернутые овчинные тулупы и посадим на татарских коней. Чтобы ужас охватил как можно больше польских глаз и умов.
— Воинов-татар это не обидит, — в сугубо восточной манере выразил свое согласие с таким перевоплощением Тугай-бей. Из этого же согласия следовало, что казакам будет выделено для их целей две тысячи запасных татарских коней. — Но мои воины составят резервный корпус и по-настоящему вступят в бой лишь тогда, когда вы начнете крупное сражение и когда всем станет ясно, что войну начали именно вы, а не татары.
И в этот раз Хмельницкий вынужден был признать, что Тугай-бей не зря претендует не только на роль полноправного правителя Перекопа, но и на титул хана.
— Можете быть уверены, правитель, что они вступят в бой как наши союзники, которые прибыли не погибать в боях, а делить славу победителей.
Тугай-бей лукаво ухмыльнулся. Цена подобных заверений ему была известна.
— Пригласить татарских воинов, чтобы они разделили воинскую славу казаков? Вы меня расстроили, полковник.
— Быстрые татарские кони, — не обратил внимания на его иронию Хмельницкий, — оказываются очень кстати в тех случаях, когда нужно преследовать врага, чтобы, добивая его, захватывать обозы.
— Мы уже несколько столетий живем в Европе, это так, — признал Тугай-бей, — но этого оказалось слишком мало, чтобы мы успели оставить свои азиатские кочевья и окончательно осесть на вашем материке.
«Извинение, достойное великого правителя Востока», — признал, в свою очередь, Хмельницкий.
11
Это был их последний привал. До заката солнца кавалькаду сопровождали проводники, посланные Тугай-беем, а только что где-то там, впереди, на холмах, прогарцевал небольшой разъезд, который, очевидно, был казачьим.
Повозки, карета и четыре шатра поставлены в небольшой квадрат, образовавший лагерь на плато между небольшим терновником, степной кручей и берегом какой-то речушки.
Окинув привычным офицерским взглядом эту местность, Хмельницкий пожалел, что он здесь без войска. Почти идеальное место для лагеря. Полковник решил запомнить его, чтобы во время похода на Крым разбить здесь свой тыловой лагерь, к которому, в случае неудачи, можно было бы с боем отойти.
— Знаете, полковник, мне иногда хочется предложить вам: оставьте свои казачьи войска и отправляйтесь со мной. В моем кортеже никто не распознает в вас бывшего опального атамана. К тому же вы всего лишь замышляете восстание, а я посему уверена, что король сумеет простить вас. Уж об этом я позабочусь.
— Предлагаете возглавить вашу охрану до прибытия в Чехию?
— Точнее сказать, иногда мне хочется предложить вам это.
— Что же мешает?
Мерно озаряют темноту три костра. В котлах варится нехитрая походная еда. Небольшой табун коней гарцует на заливных лугах по обоим берегам речушки.
— Тогда вы стали бы всего лишь беглецом, изгнанником. И я бы никогда не простила себе этого. Вам суждена совершенно иная судьба.
— Вы знаете, что мне суждено?
— Предчувствую.
Они медленно уходили по склону возвышенности, все отдаляясь и отдаляясь от лагеря. И ночь принимала их как беглецов, укрывая их и ограждая от мира величественным спокойствием бесконечной степи.
— Я не так уж много могу предвидеть в этой жизни. Но всегда безошибочно определяю людей отверженных, все стремления которых будут развеяны прахом бытия.
— Причем все эти люди тянутся почему-то именно к вам, — едва заметно улыбнулся Хмельницкий невидимой в ночи доброй улыбкой.
— Не пытайтесь быть пророком. Вам ведь уже известно, что меня называют Королевой отверженных, — шутливо разоблачила его Стефания. — Но вы-то к таким людям не принадлежите.
— Хотелось бы надеяться.
— Не скромничайте. Надеяться должна я. Вы же — идти к своему божественному факелу на вершине Олимпа.
— «Идти к божественному факелу на вершине Олимпа», — улыбнулся Хмельницкий. — Я запомню это.
— Мне будут доставлять огромную радость известия о том, что армия Хмельницкого разгромила поляков на Днепре, взяла штурмом Каменец, подступила к Львову… Имение моей тетушки под Краковом вы, надеюсь, пощадите? — хитровато прищурилась Стефания.
— Мои воины будут охранять его как святыню. Тем более что я не стремлюсь быть завоевателем Польши. Лавры могильщика Речи Посполитой меня не прельщают. Мой «факел на вершине Олимпа» — свобода Украины.
Отсюда, с холмистого плато, их небольшой лагерь казался Стефании стоянкой какого-то степного племени — маленького, беззащитного, спасающегося от могучих врагов в этом степном пристанище. Настанет рассвет, степь по ту сторону речушки огласит боевой клич врагов, и последние воины племени, уведя своих коней за ограду из повозок, примут последний бой.
Погибнут воины. Перебьют младенцев. Уведут в рабство молодых женщин, и никто больше не вспомнит о том, что когда-то здесь, на берегу этой речушки, погибло целое кочевое племя.
* * *
Предавшись своим фантазиям, Стефания восприняла как совершенно естественный порыв то, что полковник приблизился к ней сзади и, обхватив за плечи, привлек к себе. Он был сильным и мужественным. Тем последним варваром-кочевником, который спасет ее и благодаря этому продолжит род. Спасет, защитит и возьмет в жены…
Все еще пребывая в вымышленном мире своего кочевого бытия, княгиня инстинктивно прижалась к полковнику плечами и восприняла его ласки с такой неброской женской радостью, с какой женщина ее возраста может воспринимать только ласку своего последнего защитника, своей надежды.
— Я буду гордиться тобой, — прошептала она, — узнавая, что из безвестного полковника ты становишься генералом, командующим, знаменитым полководцем степной армии повстанцев. Я буду молиться, — шептала она, принимая его несмелые поцелуи, — чтобы удача не предала тебя, а воинская слава достигла самых отдаленных столиц Европы. Чтобы, установив на своей священной земле мир и спокойствие, ты рано или поздно все же подступил к стенам моего скромного замка и с непокрытой головой ждал, пока я покажусь на надвратной башне. Наверное, это мои слишком уж немыслимые фантазии?
— Если я появлюсь у ворот вашего замка, Королева отверженных, то вряд ли стану дожидаться, пока мне откроют. По привычке возьму их штурмом, — шутливо пригрозил Хмельницкий.
— Бог-дан, — нежно произнесла Стефания, обхватив ладонями его лицо. Это «Бог-дан» она произнесла с сильным ударением на первом слоге и с таким романтическим акцентом, что полковнику, как мальчишке, захотелось, чтобы она вновь повторила его имя. И чтобы отныне он слышал его как можно чаще, и всегда — из уст этой женщины.
— Сте-фа-ния… — В его произношении имя княгини получилось слишком грубым и невнятным, однако чешка не заметила этого. Она видела своего полковника таким, каким желала видеть. Каким нафантазировала себе, сотворила в своем воображении, а посему многое не замечала и прощала. Она умела делать то и другое.
— Бог-дан…
— Сте-фа-ни-я…
Они оба понимали, сколь запоздалой оказалась эта их встреча и эта любовь. Но, чем отчетливее они это осознавали, тем яростнее тянулись друг к другу, маня и лаская… Оплакивая то, чего недополучили в молодости, и страстно любя то, что беззастенчиво оплакивали в молодые годы.
— Бог-дан…
— Сте-фа-ни-я…
— Теперь у тебя получается нежнее, — прошептала княгиня, уткнувшись лицом в полу его шерстяного дорожного плаща.
— Все равно не смогу произнести так, как чувствую.
— Да это и невозможно. По себе знаю, — улыбается Стефания.
Пылают костры. Басуют почувствовавшие свободу кони. Потрескивают под порывами ветра кроны чахлых степных деревьев. И луна, неспешно выплывающая из-за черно-синего перевала туч, освещает две затерянные посреди степи фигуры, так и оставшиеся где-то между прошлыми и будущими веками, между поколениями и цивилизациями.
— Бог-дан…
— Сте-фа-ни-я…
— Я поманила бы тебя в свою Чехию, за мощные стены замка, у которого наконец-то появился бы настоящий хозяин и настоящий защитник. Но в таком случае уже никогда не смогла бы возгордиться тем, чего ты достиг, и тем, чего еще достигнешь в этом мире.
— Перед каждым сражением я буду возрождать в памяти твой образ и молиться на него, как на икону святой заступницы.
— «Святая Стефания Моравская» — так будет называться твоя икона?
— Лучшие знатоки всех религий и вер станут ломать головы, пытаясь постичь, к какой из них принадлежит и кем канонизирована эта святая Стефания Моравская…
— Но так и не смогут добраться до грешной истины, — с улыбкой поддержала его мечтания княгиня.
Она умела улавливать и продолжать мысль. Умела подхватывать и обожествлять улыбку, умела создавать из мужчины кумира — да так, что он становился кумиром не только в ее, но и в собственных глазах. Такая женщина достойна любого монарха Европы. Владея такой женщиной, невозможно не стать королем. А став им, невозможно не посвятить остаток жизни тому, чтобы овладеть такой женщиной.
Он придет к своему трону. Он добудет корону собственным мечом и только потом предстанет пред вратами того единственного замка, который готов штурмовать всю свою жизнь. Штурмовать, не сжигая и не разрушая, а любя…
— Сте-фа-ни-я…
— Помнишь ту ночь, когда я ворвалась в твою опочивальню?
— Будь я проклят, что согласился привести к себе наложницу-грузинку…
— Напрасно. Наложница была ослепительно красивой и молодой. В этот раз Карадаг-бей по-настоящему расщедрился, — успокоила его Стефания. — Только я пришла не для того, чтобы самой увлечь тебя. И не для того, чтобы своим появлением упрекнуть тебя в неверности.
— Это была последняя моя «неверность», — покаянно поклялся Хмельницкий и, что самое странное, поверил своей клятве. И это он, которого знали не только в графских салонах Потоцких, но и во многих других аристократических кругах…
— Я вообще появилась там не в связи с наложницей, — пропустила мимо ушей его мужские, монашеские клятвы Стефания. — Просто мне вдруг стало страшно. Когда я узнала, что твоего сына пытаются оставить заложником, я испугалась. Мне показалось, что что-то там, при ханском дворе, изменилось. Вмешались какие-то третьи силы. Возможно, что-то насплетничал князь Тибор. Нет-нет, он-то как раз способен на такое. Не оправдывайте его, полковник… И они решатся отравить вас. Сейчас. Чтобы не взрастить у себя под боком полководца, перед чьим именем со временем будет трепетать весь таврический Татарстан. Меня пригнал к вам страх — вот в чем дело.
— Такая опасность, конечно, была. Но я не думал о ней.
— Еще бы! Растаяв под ласками юной наложницы, — не удивилась Стефания. — А я вот испугалась. Мной овладел страх потерять вас. Навсегда. Вернуться в свою Моравию в еще большем одиночестве, чем покидала ее, для меня это было бы невыносимо. А так я возвращаюсь, унося в душе вас, мой степной рыцарь.
— Сте-фа-ни-я…
— Бог-дан… Я возвращаюсь туда, за холодные стены своего гордого одиночества, святой Стефанией Моравской. О чем еще никто не догадывается и вряд ли когда-нибудь догадается.
— Мы сохраним это втайне не только от папы римского, но и от Господа Бога.
— Кажется, я уже сотворила себе своего Бога, да простят меня все прочие боги, на земле и небесах сущие — от Иисуса до Магомета. Теперь мне есть, кому молиться.
— Поэтому и считаю тебя своей святой.
Их губы искали друг друга. Их глаза пытались пробить взорами едва освещенный луной мрак, чтобы слиться со взглядом другого. Их руки то сплетались, то блуждали под одеяниями, терзаясь вечной тоской влюбленного тела и растерзанного любовью духа.
— Бог-дан…
— Сте-фа-ни-я…
— Появившись тогда в опочивальне, я спасла тебя от того, что могло случиться в ту ночь.
— Только так отныне я и буду воспринимать твое появление в замке Карадаг-бея.
— Когда-нибудь я точно также появлюсь в твоем замке.
— Из трех степных шатров?
— …Между двумя рядами повозок и оцеплением из костров, на которых будет готовиться в котлах нечто такое, что не имеет никакого названия… — поддержала его Стефания.
И Хмельницкий вновь, уже в который раз, задался совершенно немыслимым вопросом: как случилось, что до сих пор он жил, не зная этой женщины? Как случилось, что большую и лучшую часть своей жизни он прожил, даже не догадываясь, что где-то томится в своем величественном одиночестве его святая Стефания Моравская?
В том, что жизнь так жестоко распорядилась их бытием, было что-то слишком несправедливое по отношению к ним обоим.
12
Это странствие не могло быть вечным. Их путь обрывался посреди степи, у заброшенного казачьего хуторка-зимника, который находился уже верст за двадцать севернее Бучского острова, приютившего повстанческий отряд Хмельницкого, — дальше продвигаться было опасно. Им и так дважды встречались разъезды реестровых казаков, состоявших на службе у поляков. Если полковнику удавалось избежать стычки с ними, то лишь потому, что княгиня Бартлинская выдавала его за чешского дворянина, командира своей охраны. А никто из казаков, имевших приказ арестовать Хмельницкого, где бы он им ни попался, не знал его в лицо.
— Я все поняла, — положила свою руку на ладонь полковника княгиня Стефания, когда, после придирчивых расспросов, им с большим трудом удалось развеять подозрения второй заставы. — Вам следует возвращаться, полковник. У нас, конечно, достаточно людей, чтобы справиться с подобным разъездом, но мне не хотелось бы начинать свое путешествие по польскому королевству, устилая украинскую степь трупами его воинов.
— Благоразумное решение, — согласился Хмельницкий. — Советую навестить крепость Кодак и потребовать несколько реестровых казаков для сопровождения. Хотя бы до Чигирина. Как видите, здесь небезопасно. Рекомендательного письма Потоцкого, которое имеется у вас, будет вполне достаточно, поскольку граф Николай Потоцкий является сейчас коронным гетманом.
— Но у меня есть и грамота полковника Хмельницкого, — с легкой грустинкой напомнила Стефания.
— На тот крайний случай, когда подвергнетесь нападению отряда повстанцев, идущего на Сечь. Эти отряды пробираются ко мне, поэтому моего письма будет вполне достаточно, чтобы остепенить их. Если только среди этих сорвиголов обнаружится хотя бы один человек, владеющий грамотой и знающий, кто такой Хмельницкий.
— Решено, остановлюсь в Кодаке. — Несколько минут они ехали молча, оставив обоз и охранение у зимника. Они удалялись в степь, в сторону польской крепости и, казалось, нет силы, способной разлучить их, пусть даже перед лицом самой страшной опасности. — Насколько я поняла, вам вскоре придется штурмовать эту крепость.
— Сразу же после того, как удастся выбить польский полк с Хортицы. Впрочем, извините… Вы не должны быть посвящены во все эти дела.
— Должна, полковник, должна. Я постараюсь остановиться в Кодаке и все внимательно осмотреть и узнать. Если бы нам суждено было увидеться вновь, я смогла бы сообщить, какой там гарнизон и сколько орудий. Ведь это важно для вас?
Хмельницкий взглянул на Стефанию с явным испугом. Не хватало только, чтобы, ради их дружбы, она превращалась в шпионку.
— Не смейте рисковать собой. Если понадобится, мои казаки добудут десятки пленников и узнают все, что только нужно знать. К тому же надо учесть, что я уже бывал в этой крепости и отлично знаю ее план и мощь.
— Ну что вы так встревожились?
— Слышите, княгиня, я запрещаю вам предпринимать что-либо такое, что может поставить вас под подозрение. Мы уже, по существу, в состоянии войны с польской армией, а значит, времена наступили суровые.
Спустившись в небольшую долину, Хмельницкий первым сошел с коня и помог сойти Стефании.
Они ничего не говорили друг другу. Все, что можно было сказать, уже сказано. Все, о чем можно было помолчать, — утоплено в молчании.
На глазах ее он видел слезы, однако не смел утешать, поскольку, к стыду своему, не знал, что поделать с собственными слезами. И это он, «полковник-иезуит», как называли его поляки, разжалобить которого было не легче, чем камень.
— Сте-фа-ни-я…
— Бог-дан…
Эти два слова заменяли им целые исповеди, поскольку ими они могли выразить все то, что не способны были выразить всеми остальными словами.
— Сте-фа-ни-я… — произносил он словно заклинание.
— Бог-дан… — вторила она. — В Кодаке я постараюсь не задерживаться. Основательно отдохну уже в Черкассах, где надеюсь найти приют в одном из имений Потоцких.
— Моего, как оказалось, лютого врага. А ведь именно с его благословения в 1638 году, сразу же после разгрома повстанцев гетмана Гуни [8], я был избран сотником реестрового казачества. Да и потом судьба сводила. С татарами да турками воевать все же легче, нежели со своими братьями-славянами. Что же касаемся Польши, то трудно сказать, какой крови больше пролито нами в схватках друг с другом: той, что закипает в нас во вражде, или той, что роднит сотни тысяч наших родов?
— Бог-дан…
— Сте-фа-ни-я…
— Я понимаю, как тебе нелегко сейчас. Даже думаю о том, что, может быть, еще не поздно отступиться от своих замыслов.
— И это говорите вы, княгиня!
Стефания грустно улыбнулась.
— Да, это говорю я, мой старый степной воин. Оказывается, я способна изрекать и такое.
— А как же быть со священным факелом на вершине Олимпа, огонь которого должен освящать все мои помыслы и деяния?
— Бог-дан…
— Сте-фа-ни-я…
— Буду утешать себя тем, что войну вы начинаете не из вражды к родственным мне князьям Потоцким, а из любви к страждущему народу своему.
— Что очень важно осознавать. Прощайте, святая Стефания Моравская.
— Прощайте, мой степной рыцарь.
Пока обоз уходил в сторону Кодака, Хмельницкий с грустью смотрел ему вслед. Вместе с уходом Стефании отходила в воспоминания вся прожитая им в течение этих трех недель странствия жизнь. Да, целая жизнь.
Он стоял на возвышенности и смотрел вслед обозу княгини до тех пор, пока степное марево не слилось с его слезой прощания.
— Господин полковник, — взволнованно доложил Савур, успевший за это время провести разведку окрестностей. — Впереди, у речки, польская застава!
— Сколько их там?
— Шестеро.
— Гусары?
— Нет, похоже, что реестровые казаки. Они пока не заметили нас, но лучше обойти их вон по той долине, а лучше — вообще уйти на несколько верст в степь. Тут, неподалеку от Днепра, у них сейчас застава на заставе, перехватывают мелкие группы повстанцев, идущих на Сечь.
— Так мы тоже идем на Сечь.
— Но…
— Скажи им, что ты из отряда Хмельницкого и предложи перейти к нам. Польша платит жалование деньгами, Украина — надеждой и слезами. Пусть выбирают.
— Так и передам.
— Пока мы преодолеем вон те холмы, переговоры должны быть завершены!
Однако отведенного времени Савуру и двум его казакам хватило лишь на то, чтобы понять: застава реестровиков переходить на сторону повстанцев не собирается. Жалованье и армейский харч их вполне устраивали. Мало того, поняв, что имеют дело с эмиссарами Хмельницкого, казаки ринулись было за ними в погоню, не сообразив, что за холмами их ждет засада.
Спешившись, Хмельницкий и его спутники укрылись за повозками и крупами коней и встретили реестровиков залпом из пистолей и луков. Один польский служака сразу же был убит, двое остались без коней, остальные, отстреливаясь, начали уходить в степь.
— Что делать с этими? — незло спросил Савур, указывая кончиком сабли на двух реестровиков. Один из них попытался спастись на раненом коне, другой, сам легко раненный, убегал вместе с ним, держась за стремя.
— Изрубить! — жестко приказал Хмельницкий.
Савур удивленно взглянул на него, как бы вопрошая: «Может, все-таки пощадить? Это же украинские казаки!».
— Что смотришь, сотник? Я сказал: изрубить! И можете считать, что двумя врагами на этой земле стало меньше. Не сомневайтесь, нас реестровики щадить не станут.
— Как скажешь, полковник…
«Савур и другие повстанцы видели меня с женщиной, да к тому же — с иностранкой, — поиграл желваками Хмельницкий. — А значит, видели слабым. Им не верится, что после всех тех прощальных ночных костров и расставаний я сумею остаться воином, командующим повстанческой армии. А мне такая слава не нужна».
— Тех, что все еще в седлах, тоже снять! — прокричал он, выхватывая саблю и увлекая казаков в погоню за заставой.
13
Виконт де Жермен провел папского нунция и вернулся в кабинет. Кардинал вновь стоял у залитого дождем окна, словно, собравшись в дальнюю дорогу, мучительно ждал соответствующей погоды.
— Вы не правы, виконт, — молвил он, не оглядываясь на секретаря, а попросту уловив его присутствие, — далеко не всякое посещение нашего с вами обиталища папским нунцием заканчивается обоюдной анафемой. Иногда мы с нунцием даже умудряемся благословлять друг друга.
— Вы имеете в виду согласие, которого достигли по поводу папского послания?
— Не возражайте, виконт, это действительно неплохой ход. Нам во что бы то ни стало нужно заполучить это послание. И, уже прикрываясь им, как фиговым листком…
— Весьма дальновидно, — кротко согласился де Жермен.
— И пусть только нунций посмеет явиться ко мне в следующий раз, не имея такого послания, — воинственно молвил Мазарини, возвращаясь к столу и решительно усаживаясь за него с видом человека, только что обстряпавшего важное государственное дельце.
— Можете не сомневаться, он обязательно появится с неким секретным посланием, как шулер — с тузом в рукаве. Причем я совершенно не удивлюсь, если это произойдет поразительно скоро.
— А почему это вы не удивитесь, виконт? Что это вы загадочно так пророчествуете здесь, не боясь прогневить ни меня, ни хотя бы Всевышнего — что, конечно, менее опасно для вас?
— Да потому, что это же послание уже лежало в папке нунция. В той самой, которую он так демонстративно выставил на столе перед вами.
Наступило тягостное молчание, которое кардинал и его секретарь долго не решались нарушить.
Прежде чем подняться, Мазарини неожиданно брезгливо провел рукой по столу, будто хотел смести все имеющиеся там бумаги, освобождая место под ту единственную, которую желал видеть там и не увидел.
— То есть вы уверены… что послание папы римского уже существует и что оно находилось в папочке нунция? — глухим сдавленным голосом спросил он секретаря. — Или это всего лишь ваше предположение?
— Абсолютно. Когда я приглашал его, нунций доверительно сообщил мне об этом, спросив, не лучше ли будет, если я сам передам вам это послание. То есть на словах волю папы передаст он, а, следовательно, формальности будут выполнены… Но помня, что вы — кардинал, и зная ваше отношение к подобным посланиям… В то же время, боясь оскорбления, которое может быть невольно нанесено не только ему, как папскому послу, но и самому Непогрешимому!..
— И вы, конечно, отказались принять послание папы?
— Естественно. Сославшись не на лень свою, а на существующий этикет. В свою очередь, нунций не решился выложить его вам на стол. То есть, точнее, не успел выложить его, поскольку вы столь неожиданно повели речь об услуге, которую посол может и должен оказать вам Мазарини вновь сел, нет, буквально упал в кресло, и вдруг громко расхохотался. Он хохотал долго и неискренне, принуждая себя к этому смеху, в котором пытался утолить жажду разочарования самим собой. И чем дольше он смеялся, тем отчетливее виконт понимал, что не такую уж хорошую услугу он оказал своему шефу, как ему казалось.
— Много раз я давал себе слово уволить вас как личного секретаря, виконт де Жермен. Несколько раз, как вы помните, даже готовил соответствующие распоряжения…
— Извините, ваше высокопреосвященство, но я вынужден был готовить эти распоряжения сам. Поскольку вы до сих пор не назначили себе второго секретаря, который, кстати, вам положен.
— …Но теперь я сказал себе: нет, с таким секретарем я не расстанусь даже в том случае, если меня изгонят из кабинета первого министра вместе с ним. Если только не из-за него.
14
Шел четвертый день изнурительной походной муштры. Поднимаясь на возвышенность, на которой еще чернели остатки сгоревшей когда-то давно казачьей сторожевой вышки, Хмельницкий часами наблюдал, как его крестьянское войско, под командованием опытных казаков, спешно возведенных им в звания полковников, сотников и хорунжих, постепенно превращалось из неуправляемой, бунтующей вооруженной массы — в более или менее дисциплинированное войско.
По степи еще гуляли холодные зимние ветры. Под февральской стужей покрывались ледяной проседью едва приметные ручейки, образовавшиеся здесь, на диких равнинах, после недавней случайной оттепели. А низкие серые небеса набухали фиолетово-синими нарывами предвьюжных туч, медленно накрывая собой небольшие холмы, восстающие на границе между Диким полем и Приднепровской возвышенностью.
Не привыкшие к трудным военным учениям, крестьяне измученно роптали, тем не менее вновь и вновь шли на штурм этих холмов словно на бастионы Кодака. Но, прежде чем бросаться на очередной штурм, пехотинцы рытьем окопов оскверняли не потревоженную плугом землю, зарываясь в нее с таким остервенением, словно, возненавидев весь мир, погружались в собственные могилы. Валы, возникавшие между их окопами, бурыми косогорами и серым поднебесьем, вполне могли сойти за могильные насыпи.
— Кажется, они уже выбились из сил, — попытался прервать эту воинскую экзекуцию полковник Клиша, представая перед Хмельницким. — Надо бы дать им передышку и вернуть в лагерь на Бучском, иначе часть обморозится, часть разбежится.
— Они пришли сюда сражаться. Пусть познают, что такое военный поход, хотя бы на таких отроческих забавах.
Клиша понимающе помолчал и отсюда, с высоты холма, вновь осмотрел муравьиную возню крестьянских сотен. Одни из них все еще штурмовали небольшую гору, тащась туда со штурмовыми лестницами и пытаясь преодолевать по ним словно по кладкам ими же вырытые крепостные рвы; другие учились сводить в лагерь крестьянские повозки, стягивая их колеса цепями и поднимая вверх оглобли; третьи в сотый раз меняли позиции двух старых, отрытых из песка — из казачьих тайников — турецких орудий, припрятанных еще, как говорят, со времен кошевого атамана Микошинского.
Сам Клиша подобной выучки не знавал даже на Сечи. О ней вспоминали разве что сечевые старцы, да и те — из воспоминаний таких же старцев. Говорят, таким образом когда-то готовил свои войска только Криштоф Косинский [9], до конца дней своих не признававший казачьей вольности и пытавшийся из такой вот «вооруженной отары», создать войско, которое по дисциплине своей не уступало бы римским легионам.
— Мне известно, что на Косинского ты, полковник, молишься, как на икону Николая Чудотворца, — едва заметно ухмыльнулся Хмельницкий.
Тридцатилетний полковник молча кивнул. Истощенный какой-то хворью, он и сам немало страдал от учений, однако признаться в этом Хмельницкому стеснялся.
— Кажется, ты даже из рода этого рыцаря?
— Хотя не все верят этому.
— На Сечи родословные не в чести. Здесь в чести та слава, которая добыта каждым из нас.
— Но лучше добывать ее, зная, что точно так же честно добывали эту славу твои предки, знатные казачьи атаманы.
— Мне, полковник, нужна не слава твоих предков, а твой воинский опыт. Поэтому казаков своих не жалей. Наша жалость к ним проявится там, под стенами Кодака и мощных княжеских замков. Когда вместо глупой смерти тысяч повстанцев, по-солдатски погибнут всего лишь сотни. Да и те, изумляя врагов своим искусством.
— Понял, гетман.
Хмельницкий внимательно взглянул на полковника. Клиша был первым, кто назвал его гетманом, титула которого он еще не удостоен и неизвестно, удостоится ли когда-нибудь. Однако сейчас лицо Клиши оставалось непроницаемым.
«Этот поддержит меня, — понял Хмельницкий. — Как бы ни сложилась ситуация на казачьем совете».
— Говорят, ты знаешь татарский?
— Два года пробыл в плену. Под Кафой. Но и до этого мог допросить попавшегося мне в руки татарина. Есть кто-то важный?
— Важным будешь ты, полковник. Вновь отправишься в Крым, только в этот раз — главе моего посольства [10].
— Кто меня там примет? — растерянно усмехнулся Клиша. — Кто там, в Бахчисарае, станет слушать меня, полковник?
— Вначале тебя выслушают в Перекопе. Сам Тугай-бей, которому я напишу письмо. В этом же письме буду просить, чтобы он отправился с тобой в Бахчисарай и помог убедить Ислам-Гирея заключить с нами военный союз.
— С нами? С кем это? — оглянулся вокруг себя Клиша.
— Какой же ты дипломат, если спрашиваешь «с кем»? — полушутя-полувсерьез упрекнул его Хмельницкий. — С нами — с народной армией Украины, в которой казачество слилось с отрядами ополченцев. Огромной, сильной армией, насчитывающей уже около ста тысяч сабель, — обвел он рукой поле учений, на котором было чуть более трех тысяч воинов.
Клиша уже по-новому осмотрел их воинство и задумчиво поскреб подбородок.
— Ста пока нет. Но ведь будет же когда-нибудь, правда, гетман? За нами пойдут. Должны пойти. Много полков и отрядов создано в глубинах Украины, которые уже действуют и которые ждут нас.
— Вот об этом и скажешь в Бахчисарае, помня, что пот, который костяк нашего войска проливает в эти дни на ратных полях, вернется нам спасенной кровью братьев наших.
— Должен вернуться. Когда в дорогу, гетман?
— Завтра.
— Но… надо бы…
— Поспишь в седле. Ночь посидишь с двумя пленными татарами, вспомнишь язык, свыкнешься с ордынцами, чтобы не тушевался перед ними.
— А кто его знает? — азартно встрепенулся полковник. — Вдруг нас уже более ста тысяч? Как думаешь, поверят, если тысяч на десять привру?
— Главное — не проговорись, что нас тут и четырех тысяч не набирается, величайший из врунов Дикого поля, — иронично предупредил Хмельницкий. — Вояк еще кое-как по селам наскребу, — вздохнул он. — Но где взять дипломатов, способных говорить не только с ордынцами, но и с Европой?
15
Бал у герцогини д'Анжу кардинал Мазарини использовал для того, чтобы в непринужденной обстановке встретиться с нужными ему людьми — министрами, промышленниками, владельцами крупных поместий в окрестностях Парижа.
Он не так уж часто посещал подобные аристократические собрания, но по его приказу виконт де Жермен составлял не только список балов и заседаний салонов, которые предполагались в Париже в течение текущего месяца, но и через доверенных лиц тщательно знакомился со списками приглашенных. Так что Мазарини знал, куда он шел и на кого следует тратить время. Пользуясь возможностью, он не раз умышленно подставлял себя под «случайный разговор» с тем человеком, которого уже давно собирался пригласить к себе в рабочий кабинет. Но там была бы иная атмосфера, а, следовательно, складывался бы совершенно другой разговор.
Появление графини де Ляфер на балу у герцогини не планировалось. Что, однако, не помешало владелице солидного замка в Шварценгрюндене «снизойти» в разгар бала, без мужа или сопровождающего, в роскошном белом платье, которому позавидовала бы любая королева мира.
— Из всех добропорядочных аристократов, осчастлививших своим присутствием нашу герцогиню, мне, признаться, нужны только вы, мсье кардинал, — предстала она перед Мазарини в то время, когда слуги начали уже по третьему кругу разносить бокалы с вином.
— Не знаю, будет ли прок от нашей беседы, — мило улыбнулся Мазарини, — но что весь парижский свет заметит, как первый министр блистал в обществе супруги помощника одного из своих министров, не сомневаюсь.
— А какое множество милейших версий породит это событие, — почти застенчиво улыбалась графиня, наклоняясь к Мазарини так, словно собиралась пить на брудершафт. — Однако у меня к вам дело, — ограничилась Диана де Ляфер всего лишь игривым чоканьем бокалов. — Срочное и весьма важное. Не только для нас с вами, но и для Франции.
— Вы — известная в Париже интриганка, — шутливо заметил кардинал, — поэтому я не верю ни одному вашему обещанию, вообще ни одному слову.
— Пожалеете, ваше высокопреосвященство.
— Вы кого угодно завлечете в свои сети и обманете, — грубо отшучивался кардинал, отходя тем не менее к стоящему за колоннадами небольшому столику на двоих. — Не говоря уже о бедном первом министре, известном своей епархиальной доверчивостью.
Однако графиня не обращала внимания на его мрачноватую браваду. Она уже почувствовала, что кардинал действительно заинтригован, а значит, из пленительных объятий ее романтического полубреда уже не вырвется.
— Но только предупреждаю, мессир кардинал, — таращила она свои колдовские глазищи, — с этой минуты мы почти что заговорщики. Каждого, кто предаст, ждет черная метка. Как истинному сицилийцу, вам, господин Мазарини, надеюсь, известен этот символ пиратской мести?
— Признаться, все тонкости пиратских налетов и атрибутику убийств из-за угла я начал познавать не на пиратской Сицилии, а здесь, в Париже, в великосветских салонах. Но пусть вас это не смущает. Можете считать, что свою «черную метку» я уже получил. Валяйте, графиня, втаскивайте меня в еще один заговор против самого ненавистного мне, вам и всей Франции… кардинала Мазарини!
— Вы бесподобны, мессир. Как жаль, что я умудрилась родиться не на Сицилии.
Рассказывая кардиналу о таинственной Афронормандии, графиня поражалась собственному воображению. Она сообщала Мазарини такие подробности будущего путешествия, так разрисовывала божественность этого земного рая, что дон Морано, будь он жив, со слезами на глазах вынужден был бы признать, что лично он никогда этой земли не видел, а все, что знает о ней, узнал только сейчас, со слов истинной очевидицы.
Тем не менее выдавить слезу умиления у Мазарини ей не удалось. Легче было расчувствовать сотню закоренелых пиратов, нежели этого покорного слугу короля и святого престола.
— Свой корабль «Гяур», как я понял, вы уже снарядили и предлагаете мне место шкипера, — подстрелил он графиню на взлете ее фантазии.
— Только в том случае, когда, воспользовавшись своей нынешней должностью, вы поможете нам снарядить еще один корабль, спасая нас тем самым от соблазна добыть его известным пиратским способом. Кстати, это второе судно тоже может появиться как владение некоей судоходной французской компании, что избавит ваших министров от дипломатической щепетильности при определении владельца Афронормандии и целей самой экспедиции.
Вместо того чтобы сразу же ответить, Мазарини демонстративно отвлекся, приветствуя великосветские поклоны нескольких знатных граждан Парижа и нового посла Персии, затем, угомонившись, принялся столь же демонстративно осматривать декольте графини де Ляфер, словно собирался тут же, не уходя с бального зала, раздеть ее.
— По-моему, все, чем я могла соблазнить вас сегодня, ваше высокопреосвященство, уже было пущено мною в ход, — сердито окрысилась на это блудоглазие старого ловеласа Диана. — В ближайшие годы рассчитывать вам больше не на что.
— Так, значит, речь идет о годах… — задумчиво склонил голову на собственное плечо Мазарини. — Тогда стоит вернуться к пленительной идее, связанной с покорением вашей Афронормандии.
«По крайней мере у него хватает мужества… и ума не связывать свои, пусть даже весьма сомнительные, услуги, с моими, не менее сомнительными…» — с признательностью отметила графиня. Не для того она мчалась сюда со Шварценгрюндена и тратилась на новое платье, чтобы все было сведено к банальному соблазнению невинной кокетки.
— Ну, годы, это, может быть, сказано слишком. Но если вы заявите, что помочь мне в этой экспедиции невозможно, считайте, что в ближайшие месяцы эта крепость, — невинно провела она руками по своей груди и талии, — останется для вас неприступной.
— Я только что вспомнил о другой… крепости, о Дюнкерке, — искусно, а главное, вовремя, сменил тему опытный дипломат. — Говорят, князь Гяур проявил там чудеса храбрости.
— Но это уже не слухи, господин первый министр, — возмутилась графиня. — Был бы он французом, его следовало бы объявить национальным героем.
— Мало того, этот гусар-драгун неожиданно проявил какие-то исключительные флотоводческие способности, перетопив чуть ли не эскадру испанских военных кораблей. А затем, оказавшись в плену, сумел не только убежать, но и прихватить свою плавучую тюрьму.
— Этот корабль дарован ему главнокомандующим вместе с чином генерала.
— Почему не адмирала? — неожиданно встрепенулся Мазарини. И графиня поняла, что вопрос возник не по прихоти игривого настроения кардинала. За ним что-то стоит.
— В самом деле, почему? — поддержала его в том же духе. — Если уж генерал прославился на все побережье, от коготков Нидерланд до кончика носа Испании?
— Он, конечно, может оставаться и генералом, возглавляющим экспедицию… Но лучше, если бы… Словом, первое, что следовало бы сделать князю Гяуру, так это вернуться во Францию, чтобы возглавить вашу экспедицию. Думаю, что когда об этом его станет просить первый министр, сердце генерала не содрогнется. Иное дело, когда от имени первого министра и королевы просить станете вы, графиня.
— Если уж таков мой жребий, — скромно опустила глаза де Ляфер.
— Вернувшись сюда, он, прежде всего, за свой счет переправит на родину, то есть к польским берегам, оставшихся наемников-казаков Сирко, содержать которых у нас уже нет возможности. Как, впрочем, и оплатить их путь назад. Казна задолжала им столько, что мне и принцу де Конде выгоднее объявить их врагами Франции и вступить в сражение с ними, чем в сражение с казной.
— И не стыдно вам, господин первый министр?! — прямо спросила графиня. Она чувствовала себя причастной к появлению здесь корпуса храбрецов-казаков, значит, вполне обоснованно считала себя причастной к тому казначейскому позору, с которым Франция представала, увы, не только перед степными рыцарями.
— Признаться, за всю мою службу никто не ставил вопрос столь по-детски наивно и столь убийственно, как это сделали вы, милая графиня.
— В этом ошибка французской общественности. Но вернемся к князю Гяуру, которому вы, слава Богу, ничего задолжать не успели. В противном случае он тотчас же поступил бы на службу к испанскому королю и пустил на дно весь французский флот, вместе с гарнизонами наших прибрежных крепостей.
— Первым жестом — вашим и князя Гяура — благородства станет отправка казаков к берегам Польши. За свой счет, на принадлежащем ему корабле. Что конечно же будет освещено в газетах и обсуждено в салонах.
— Их все еще много, этих казаков?
— Не так уж… Часть погибла. Часть, насколько я знаю, успела пасть под взглядами пылких французских девиц и вдов и намерена навсегда остаться во Франции, что лишь приветствуется нами. Какую-то часть мы, возможно, отправим попутными кораблями. Но офицеры и казаки, не покоренные француженками, остаются на вашем попечительстве.
— Какая «щедрость» с вашей стороны!
— Не язвите, графиня.
— Тогда обратимся к условиям приобщения Гяура к французской экспедиции в Африку.
— Вернувшись после переброски казаков в Польшу к причалам Кале, вице-адмирал Гяур узнает, что ему придаются еще два военных корабля, и с этим отрядом ему надлежит очищать побережье Франции от обломков испанского флота, истребляя в первую очередь «прибрежных корсаров», наловчившихся высаживать свои десанты в самых неудобных для нас местах. Если при этом вице-адмирал умудрится захватить два-три корабля испанцев… То кто станет возражать против того, чтобы они тоже были присоединены к его отряду?
— А после завершения всех баталий…
— Вот именно, графиня, кто сможет помешать князю после завершения всех баталий взять своего «Гяура» и те корабли, которые он захватит в абордажном бою, и отправиться к берегам Африки, чтобы проинспектировать наши заморские колонии, а заодно попугать местных пиратов?
— Думаю, что никто…
— Вот видите, графиня, вы все же сомневаетесь. А я могу заявить вам со всей решительностью: ни одно благородное дело, совершенное во имя Франции и короля, не остается незамеченным нашей благословенной родиной. Кажется, мы уже обо всем договорились, графиня?
— Хочется надеяться.
— Если у вас возникнут вопросы, можете появиться у меня завтра, к концу дня… и мы все обсудим.
Они встретились взглядами и отлично поняли друг друга.
— Только сделаем это не завтра, ваше высокопреосвященство. После сегодняшней нашей беседы мой предвечерний визит будет сразу же замечен и «не так» истолкован. А нам ведь нельзя портить отношения с Ее Величеством королевой Анной Австрийской, не правда ли? — мило улыбнулась Диана, давая понять, что кое-какие тайны французского двора не такие уж тайны даже для нее, шварценгрюнденской провинциалки.
— Вы, как всегда, непоколебимо мудры, — едва заметно побагровел Мазарини.
16
Полк провел последний «штурм» холма, который воспринимался новобранцами как сильно укрепленный вражеский лагерь и, разведя костры, готовился к еще одной походной ночи.
Хмельницкий понимал, что три дня таких учений вряд ли способны превратить сборище необученного люда в дисциплинированный казачий полк, но все же тешил себя, что хоть чему-то эти люди обучились. И даже приказал отобрать сотню наиболее способных воинов, которых можно будет назначить хорунжими и сотниками тех повстанческих полков, которые еще только предстоит сформировать.
В отличие от остальных новобранцев эта сотня теперь не отдыхала, а под командованием казаков реестра обучалась пешему строю, ходила в наступление прусской колонной и турецким янычарским полумесяцем; отбивала атаки, стоя в небольшом каре, напоминавшем римскую фалангу.
Глядя на то, как будущие офицеры постепенно превращаются в европейское воинство, повстанцы начинали верить, что с таким гетманом они действительно смогут не только отбиваться от поляков, но и побеждать их. Само умение сражаться в строю, в конной лаве, в укрепленном лагере казалось им тем высоким воинским искусством, овладев которым, они превращались в непобедимое войско.
— Там карета, атаман! — неожиданно появился у шатра гетмана полковник Ганжа.
— Ну, карета? — с трудом вырвался из потока своих размышлений Хмельницкий. Он стоял между шатром и небольшим костром, наблюдая, как на равнине, у подножия холма, под восходящим месяцем, разворачивается военное представление сотни будущих казачьих офицеров.
— Мы перехватили ее.
— Ну, перехватили. Карету сопровождают двадцать реестровых казаков, с которыми вы не в состоянии справиться?
— В моем дозоре было только пятеро. Но те, у кареты, не сражаются. Наоборот, просят свести с вами.
— Это казаки?
— Княгиня.
— Какая еще княгиня? — насторожился Хмельницкий. — Родовое имя у этой княгини есть?
«Неужели Стефания Бартлинская? — загорелась в душе полковника искра надежды. — Но откуда? Как она могла оказаться здесь? Нет, такое невозможно!».
— Имя есть. Она даже назвала его. Но только что-то я не запомнил. Не старая еще княгиня… Они все… панночки как панночки.
— Шел бы ты к черту, полковник, со своими «панночками». Какой от тебя толк, если ты уже не способен даже имен запомнить? — полушутя проворчал Хмельницкий и, кликнув сотника Савура, неохотно взобрался в седло.
Карета и ее охрана оставались по ту сторону речушки. Но вовсе не потому, что не могли преодолеть ее, а потому что владелица кареты опасалась показываться в лагере повстанцев. Она просила полковника Ганжу никому, кроме Хмельницкого, не сообщать о ее прибытии, и даже имя забыть.
— Поспешите, полковник, поспешите! — услышал Хмельницкий негромкий бархатный смешок, такой знакомый ему. — Не то вновь исчезну, как вечернее привидение.
— Вы ли это, княгиня?!
— Конечно же я. — Вся в белом одеянии, она ступила на подножку кареты, однако сойти на еще не просохшую от вчерашнего дождя землю не решилась. — Сколько бы раз я ни появлялась пред вами, каждый раз вы почему-то сомневаетесь в моем существовании.
— Нужно очень долго не расставаться, чтобы наконец поверить, что вы в самом деле не причудились мне, — согласился Хмельницкий. — Но, что поделаешь, появление в этой степи такой девы…
Только поцеловав ее руку, ощутив пьянящий запах тонких духов, незаметно проведя ее пальцами по своему лбу — он повторял жест, которым Стефания любила успокаивать его во время удивительного странствия по степям Крыма и Приднепровья, — Хмельницкий с трудом поверил, что все это происходит на самом деле. Что перед ним действительно женщина в белом словно невеста — в подвенечном платье… И что ее неподражаемый, неземной, бархатный голос, способный очаровать кого угодно, — не иллюзия…
— Сте-фа-ния… — покачал он головой, пытаясь развеять охватившее его наваждение.
— Бог-дан, — прошептала она, сильно налегая на первый слог. Все поляки произносили его имя именно так, «Бог-дан», и все же в устах Стефании Бартлинской оно звучало по-особому — нежнее, загадочнее…
— Как вы оказались здесь, ваше сиятельство? Как вообще могли оказаться в этих краях, Стефания?
— Непостижимо долгий рассказ. Настолько долгий, что, стоя на подножке кареты, под холодным днепровским ветром, изложить его невозможно.
Произнесла она все это томным салонным голосом, который естественнее было бы слышать в утренних спальнях лучших дворцов Варшавы или Праги. Однако содержавшийся в ее словах намек был вполне в духе Королевы отверженных.
— У меня там — шатер и костер. Походный замок для степной княжны.
— Еще не забыли… о своей «степной княжне»?
— Это невозможно… Ни вспомнить, ни забыть.
Наградой ему стал бисерный смех — очаровательный, как сама обрамленная двумя ямочками и слегка вздернутым носиком улыбка Стефании.
— В ответ на ваш «шатер и костер» я могу предложить карету. Преимущество в том, что она способна двигаться. Куда угодно, лишь бы подальше от лагеря. И, по-моему, в ней не так уж холодно, поскольку это та утепленная карета, в которой мы путешествовали по татарским улусам.
Карета Стефании действительно обладала удивительной способностью — катиться как бы сама по себе. Непонятно, по каким дорогам, и непонятно, куда.
Обнявшись, они блаженствовали на ее заднем сиденье. И чем немилосерднее швыряло карету, тем немилосерднее швыряло в объятия друг друга и ее пассажиров.
— Сте-фа-ния…
— Бог-дан…
Где-то там, позади, за холмами, остались походные костры повстанческого полка, грозные команды запорожских старшин и звон неумелых сабель. Где-то там упорно готовились сражаться и погибать, проклинали тех, от кого бежали в степь, и надеялись на тех, кто поведет их завтра в бой.
— Сте-фа-ния…
— Бог-дан…
Никто и никогда не произносил так его имени. Никто и никогда. Это слово срывалось с губ женщины, словно утренний бутон доселе невиданного цветка. Иногда Хмельницкому казалось, что рядом с этой женщиной он теряет всю свою волю, свою надменную сдержанность и, кто знает, возможно, жестокость…
Прикасаясь к ее волосам, он пытался сравнить их с паутиной бабьего лета и оставался недоволен убогостью своего сравнения и самой фантазии. Целуя в слегка припухшие, по-детски капризные губы, он пытался увидеть в них красоту лепестков, хотя и самого его коробило от несовершенства и банальности такого восприятия.
Эта встреча вновь возвращала его в студенческие годы. В молодость. В страдания у подъездов львовских и краковских аристократок. В мечты о замке, построенном где-нибудь между Хелмом и Краковом, в котором будет положено начало графского или княжеского рода Хмельницких. Почему именно между Хелмом и Краковом — этого он объяснить не мог.
— Сте-фа-ния…
— Бог-дан…
Кони медленно взбираются на какую-то возвышенность. Не слышно голосов охраны. Не слышно щелканья кнута и хриплого голоса кучера. Все вокруг замерло. Карета движется сама по себе. Возможно, лошадей из нее давно выпрягли, но она продолжает двигаться, повинуясь лунному сиянию, по дорожке в степь, в развеивающиеся между прошлым и будущим мечты, в вечность…
— Я ждала тебя в Чигирине, очень-очень ждала, Бог-дан.
— Но я никак не мог оказаться там, княгиня. Не то время.
— Понимаю.
— Теперь я — командующий восставшей армии. Меня попросту схватили бы и казнили. Словом, я действительно не мог оказаться там.
— Понимаю, что не мог. Потому и ждала. Ведь, если ты где-либо и мог появиться, то только в Чигирине. Забираться дальше, в Черкассы, в Белую Церковь… мне было страшно. Уж там-то ты не покажешься никогда.
— Покажусь, но чуть позже, — произнес Хмельницкий, имея в виду совершенно не тот визит, о котором мечтала сейчас Бартлинская. — Я ведь не знал, что вы все еще в Украине, княгиня. Вы мне виделись в одном из чешских замков, где-то неподалеку от Праги.
— Это «неподалеку» называется Градец-Карлове, то есть городок короля Карла. Мне не хотелось бы, чтобы вы забывали об этом, мужественный воитель Украины.
— Градец-Карлове… — прошептал Хмельницкий с такой воодушевленностью, словно произносил первые слова церковного гимна. — Значит, все-таки Градец-Карлове…
— Запомнили, воитель? Это вселяет в меня надежду, что когда-нибудь вы предстанете перед скромным замком княгини Бартлинской, отряхнете со своих сапог пыль странствий и скажете: «Господи, что я искал все это время, если здесь меня ждал этот прекрасный замок?!»
— Вы говорили, что он скромный, — некстати напомнил Хмельницкий.
— Потому и прекрасный, — не так-то просто было смутить княгиню Бартлинскую. — Это чуть севернее Праги, в сторону польского Вроцлава. Оставить вам одного из своих лучников, чтобы у вас был надежный проводник?
— Лучше останьтесь вы, Сте-фа-ния.
— Тогда вы постоянно будете чувствовать себя стрелой, вставленной в туго натянутый лук, обращенный в сторону Градца-Карлове. Вас это не пугает?
— Еще как пугает!
— Вы бесподобны, Бог-дан…
— А вы… вы просто божественны, Сте-фа-ния…
17
Забывшись в поцелуе, они не сразу обратили внимание на то, что карета стоит. Причем стоит уже довольно долго.
Полковник выглянул в окошко. Никого. Ни живой души. Ночное светило взошло во всем своем голубоватом полнолунии. Степь казалась залитой его сиянием словно белым половодьем. Невесть как оказавшийся неподалеку, у разрытого холма, тополь устремлялся вверх своей строгой кроной словно минарет на обломках разрушенной мечети.
— Что-то тут не то, — пробормотал Хмельницкий.
Стефания полусонно улыбнулась ему. Она все еще пребывала в плену поцелуя, и происходящее вокруг, казалось, совершенно не интересовало ее. Это безразличие ко всему, что не соприкасалось с ее внутренним миром, поражало Хмельницкого еще тогда, когда они только по-настоящему познакомились, по дороге из Бахчисарая в Перекоп. Теперь он убедился, что сие свойство характера княгини вовсе не пригрезилось ему. Эта женщина умела сосредоточиваться только на том, что дорого и понятно ей, отбрасывая, отторгая от себя все остальное.
— А что именно «не то»? — неохотно разомкнула княгиня сомкнутые на плечах полковника руки.
— Все не то. Куда подевалась охрана? Где мы сейчас находимся?
— Не все ли равно, где?
— Извините, княгиня, это — степь, в которой наша карета видна за много верст. Ее давно могли выследить. Здесь враги и грабители нападают внезапно, как порыв урагана.
— Видно, мне так и суждено остаться здесь степной княгиней, предав свой Градец-Карлове, — вздохнула Стефания, не проникаясь опасениями полковника.
Выйдя из кареты, Хмельницкий обнаружил, что они стоят на небольшой возвышенности, между какими-то пригорками. А впереди, чуть левее тополя-минарета, чернеет нечто похожее на небольшой шатер. Но самое удивительное, что ни одного воина охраны поблизости. Даже грозные великаны-лучники княгини, всегда неотступно следовавшие за ней, теперь куда-то исчезли.
— Эй, кто здесь, на передке? — негромко спросил Хмельницкий, почти с радостью обнаружив, что одна живая душа все же объявилась.
— Пергаментно, полковник, пергаментно. Можешь считать, что и меня тоже нет.
— Ганжа, ты, что ли?
— Ганжа. Кто же еще?!
— А где остальные воины? — сурово спросил Хмельницкий. — Где охрана, пергаментная твоя душа?
— Там, за холмами. Чуть поотстали. Из лагеря им привезли еды и водки, опять же — шатер…
— А где мы находимся? Где, в какой стороне теперь наш лагерь?
— Тоже за холмами, только чуть дальше.
— А почему ты оказался вместо кучера?
— Так ведь он тоже там, за холмами.
— Пошел бы ты к дьяволу, Ганжа.
— Перейдете в шатер, я уйду. Не к дьяволу, а туда же, за холмы. Чтобы в случае чего…
— Постой, а что это за шатер?
— Шатер как шатер.
— Но кто его там установил?
— Никто не устанавливал. Едем. Видим: шатер стоит. Сухо в нем, тепло. Попоны, ковер.
— Что, так и стоял? И никого вокруг?
— Никого. Пергаментно.
Подойдя поближе, Хмельницкий узнал, что это стоит его собственный шатер. Тот самый, который вроде бы остался в лагере.
— Когда же ты успел перевезти его сюда, Ганжа? — рассмеялся Хмельницкий.
— Да кто ж его перевозил? Едем, стоит… Шатер как шатер… Чего зря мимо проезжать? Входи, полковник. Как полагается, — не уставал он поражать вождя повстанцев своим красноречием.
Вернувшись к карете, полковник обнаружил, что княгиня задремала. Все, что происходило в этой дикой, наполненной враждующими отрядами поляков, казаков, крымских и едисанских [11] татар степи, ее совершенно не интересовало.
«Каким же истинно королевским спокойствием нужно обладать, чтобы оставаться такой безучастной! — позавидовал Хмельницкий. — А многие подозревают меня в иезуитской надменности и презрению ко всему бренному. Хотя по сравнению с Королевой отверженных я всего лишь жалкий недоучка…»
Вежливо разбудив княгиню Стефанию, он вывел ее из кареты и, взяв на руки, понес к шатру. Ганжа тотчас же подогнал карету к шатру таким образом, чтобы загородить ее вход, распряг лошадей и куда-то исчез вместе с ними.
— Это и есть наш Градец-Карлове, княгиня, — объявил полковник, вводя Стефанию в шатер словно принцессу в замок. — Правда, на сей раз — степной… градец.
— Знать бы раньше, что он находится здесь, а не в нескольких десятках миль от Праги!
— Знать бы, Стефания.
— Мы возведем новый, наш градец, на этой самой возвышенности.
— Такого еще не случалось ни в одной из легенд. Но все-таки мы его возведем.
— Бог-дан…
— Сте-фа-ния…
— Бог-дан…
Она раздевалась с истинно королевским величием. И не отдавалась, не покорялась прихоти мужчины, не жеманничала, великосветски торгуясь и страдальчески набивая себе цену. Нет, она… одаривала собою мужчину. Одаривала того, кем дорожила и кем имела все основания гордиться.
Эта женщина вознаграждала его своим бархатным воркованием, своей пленительной улыбкой, той великой тайной женского естества, которую она сама только сейчас познавала со степным князем и с таким же восхищением, как и он.
— Вам ведь никогда не приходилось бывать с такой женщиной, правда, полковник?
— С такой — никогда.
— Бог-дан!..
— Сте-фа-ния!..
Несмотря на то, что в шатре было еще довольно прохладно, она предстала перед ним совершенно оголенной, и свет луны, пробивавшийся через приоткрытый полог и светлую ткань занавеси, мгновенно охватил ее своим холодным пламенем. Нежно прикасаясь руками к ее ногам, Хмельницкий медленно словно великомученик на подножие пылающего креста восходил на этот костер страсти, поражаясь его очищающей силе. Позабыв весь свой предыдущий любовный опыт, полковник восхищался тем жертвенным чудом, что совершался между ним и прекрасной, совершенно непонятной ему женщиной здесь, в походном шатре, посреди зарождавшегося степного утра.
Это были минуты забвения, сотканные из вечности.
Хмельницкий не обладал этой женщиной, а растворялся в ее ласках, погибал в ее томных вздохах и воскресал в ее призывных стонах.
— Сте-фа-ния…
— Бог-дан…
Сотни раз они одухотворенно изрекали свои имена, всякий раз вкладывая в них совершенно иной, только им двоим понятный смысл, подчиненный восторгу познания и зову тоски, роковой неминуемости их встречи и трагическому осознанию близкой разлуки.
— Сте-фа-ни-я…
— Бог-дан…
* * *
Проснувшись утром, Хмельницкий увидел, что лежит в шатре один, перед приоткрытым пологом, освещенным уже довольно ярким и теплым солнцем.
В шатре не осталось ничего, что напоминало бы о пребывании здесь женщины, и, закрыв глаза, полковник еще какое-то время пытался возродить в памяти то, что происходило здесь ночью. Однако очень скоро понял, что возродить такое невозможно, как невозможно вернуть себе загадочный, сладкий сон, перевоплотив его в непостижимый поток грешного бытия.
«Если все это было сном, то я согласен уснуть им навечно. Лишь бы все это было… Всегда. Пусть даже сном…»
Растирая рукой сонное лицо, он ощутил запах духов и задержал ладонь, почти мистически опасаясь, что эти духи — последнее, что позволит ему окончательно поверить в снизошедшую к нему лунную женщину посреди пылающего ночным сиянием и страстью походного шатра.
Насладившись этим эфирным воспоминанием, он подполз к выходу и, выглянув из шатра, охватил взглядом то, что происходило вблизи него.
К своему удивлению, полковник обнаружил, что совсем рядом, лишь на небольшом отдалении от его пристанища, сдерживаемая предупреждениями офицеров и мужской солидарностью, негромко бурлит привычная лагерная жизнь. Судя по всему, большая часть казаков вновь ушла к холмам для их учебного штурма. Еще две сотни упорно окапывались, причем делали это с такой поспешностью, словно враг уже был на подходе. А тем временем от костров и котлов веяло крепко настоянным на сале и чесноке казацким кулешом.
— Ганжа, черт бы тебя побрал, что здесь происходит?!
Полковник сидел напротив входа, на передке повозки, на которой стояло одно из орудий, и с философской задумчивостью смотрел в пространство перед собой, не то что не завидуя гетману, но даже не обращая на него внимания.
— Так ведь обленились же совсем, — кивнул в сторону новобранцев, изощряющихся на рытье окопов. — Вечером не уложишь, утром не поднимешь. А какие из них работнички — сам видишь.
— Побойся Бога, что ты несешь? На кой черт мне твои «работнички»? — поморщился Хмельницкий, качая головой так, словно приходил в себя после победной полковой попойки. — Где она? Куда девалась княгиня, Стефания?
— Так ведь кто ж ее знает, где?
— Что значит, «кто ее знает»? Где карета, лучники?
— Лучники там, где и карета. Так ведь знать бы, где они теперь — и карета и лучники. Еще на рассвете уехали. А я вот лагерь сюда перевел, чтобы тебя к лагерю не перевозить.
— Да на кой дьявол мне твой лагерь?! Ты мне по-людски объясни, где княгиня Бартлинская? Куда она ушла? И почему тайком от меня, не попрощавшись?
— Решила выступить еще до восхода солнца, — пожал плечами Ганжа. — Многие так поступают, чтобы день удлинить. Под вечер в Чигирине будет. Затем на Субботов глянет. Это уже когда на Корсунь пойдет.
Хмельницкий нервно пошарил вокруг себя, пытаясь нащупать саблю или пистолет. У него вдруг возникло страстное желание броситься на этого невозмутимого бездушного коротышку и изрубить его на мелкие куски.
— Так ведь оружие твое — у меня. Чтоб не под горячую руку, — с тем же омерзительным спокойствием объяснил ему Ганжа и, взяв лежавшую рядом с ним саблю, сунул ее в задранный к небу ствол орудия.
— Почему же не разбудил меня?! — метал молнии Хмельницкий, поспешно облачаясь и путаясь в одеяниях. — Как ты мог отпустить ее?
— Так ведь хотела бы — сама разбудила бы… И что ж ей тут, одной-единственной бабе на весь лагерь?
— Что значит «одной на весь лагерь»?
— К речке вон мыться пошла, так весь лагерь, полудурной-полусонный, за ней потянулся. Княгиня — это ж тебе не вдова, за тыном промеж двумя глечиками![12]
— Ох, и христопродавец же ты! — отчаянно повертел головой Хмельницкий. — В бою погибнуть тебе не дано.
Выйдя из шатра, Хмельницкий сразу же бросился к коню и, вскочив на него, еще не оседланного, помчался к небольшим холмам, между которыми уводила в сторону Днепра едва приметная степная дорога, укатанная здесь когда-то еще повозками чумаков.
Поднявшись на один из холмов, он посмотрел вдаль. Ничего, кроме далекого степного марева да небольшой рощицы справа от дороги. И все же Хмельницкий не сдержался, погнал коня дальше. Гнал и гнал его, пока не достиг небольшого, едва пробивавшегося сквозь мелкий кустарник ручейка. Буквально свалившись с коня, он упал на прошлогоднюю траву и, повернувшись на спину, несколько минут лежал так, глядя сквозь подло выступившие слезы на высокое, подернутое голубоватой позолотой небо.
— Земля-то сырая, гетман. Зимняя, считай, — услышал он постылый голос Ганжи. — В нее, если уж ложиться, то так, чтобы никакая простуда не пристала. Пергаментно…
Тут же приблизились Савур и Седлаш. Подхватив гетмана под руки, они помогли ему подняться и подвели коня.
— Уезжая, княгиня сказала, что до середины лета пробудет в Кракове, у своей родственницы графини Конецкой, — молвил Ганжа. — Потом вернется туда же через год. Ну а где находится этот городок ее… этот чертов Карлов… так это, сказала, ты уже знаешь.
— Никогда не прощу этого тебе, Ганжа, — прорычал гетман. — Врагом моим лютым останешься.
— Ничего, поляки нас помирят, — благодушно успокоил его Ганжа.
18
К своему замку в Грабово Гяур прибыл на закате солнца. Грозная, обведенная мощной стеной цитадель казалась совершенно безжизненной: ни одного лица в привратных бойницах, ни одного голоса из-за окон замкового дворца. А перед ним — неподвижная массивность ворот, на которых ярко вырисовывался родовой герб Одаров — меч между двумя скрещенными щитами.
Приблизившись к воротам — подъемный мост был опущен, — князь дотянулся рукой до герба, как до святыни. Ему показалось, что он излучает какую-то магнетическую силу, которая пронизывает все его тело, проходя через него, как молния.
Оглянувшись, Гяур увидел, что Улич и Хозар сошли с коней и стоят, сняв шлемы и почтительно опустив головы.
— Это память не только о моих, но и ваших предках, — молвил Гяур. — То, что досталось нам из прошлых веков и что останется после нас: замок, герб, имена… и добрая слава.
— Одар! — негромко ответили русичи-оруженосцы.
— Кто там?! — донесся из башни хриплый бас. — Чьи воины?
— Прибыл владелец замка князь Одар-Гяур! — ответил Улич. — И чем скорее ты протрешь свои сонные глаза и откроешь их, тем меньше плетей тебе достанется, мощи святой Варвары!
— Да, прибыл сам князь? — спокойно уточнил страж, и по голосу, по акценту, с которым он говорил, князь определил, что это был кто-то из норманнов.
— Кто теперь управитель замка? — спросил Гяур, увидев перед собой рослого широкоплечего викинга в старой потрескавшейся куртке из воловьей кожи.
— Ярлгсон. Тот самый, которого вы назначили, князь.
— Вас тогда было трое норманнов.
— Теперь осталось двое: Ярлгсон и я, Эриксон. Третий, Грумм, погиб, когда мы сражались с повстанцами, пытавшимися захватить замок.
— Так, значит, он все же выдержал осаду? — с гордостью уточнил Гяур.
— Держался целую неделю, пока не прибыл какой-то конный полк, посланный нам из Пшемысля. Мы могли продержаться еще дня два, не больше. Не было пищи, не было воды, кончился порох. Но если бы все это было, если бы замок оказался подготовленным к осаде, мы бы положили под его стенами всю бунтующую орду.
Гяур сошел с коня, обнял норманна и так, почти в обнимку с ним, пошел через осадный двор к следующим воротам, за которыми начинался собственно замок, ибо эта, внешняя, стена была сугубо крепостной, как это заведено в любом укрепленном замке.
— Много людей погибло тогда?
— Немало, князь. Но княгиня ваша с дочерью живы. Мы боялись только за них.
Гяур признательно похлопал его по плечу. Он тянул с этим вопросом, побаиваясь услышать нечто страшное.
— Так они сейчас в замке?
— Отбыли к себе, в имение Ратоборово.
— Но ведь здесь безопаснее.
— Княгиню Власту почему-то угнетают наши мрачные стены, бойницы, подземелья… Чудились какие-то привидения и духи. Даже утверждает, что беседовала с вашим предком.
— Ты понимаешь, о чем говоришь, Эриксон?! Власта действительно беседовала с духом князя Одара?
— Об этом вам лучше расспросить Ярлгсона или ее саму. У меня создалось впечатление, что прекрасная княгиня способна общаться не только с духами, но и с позеленевшими в этих стенах камнями.
— Ты прав, Эриксон. Эта женщина способна беседовать даже с камнями. Особенно когда, глядя на нее, люди теряют дар речи.
Эриксон удивленно взглянул на Гяура и пожал плечами. Он был не из разговорчивых и воспринимал вещи такими, какими они есть. И слова тоже, так, как они сказаны.
Ярлгсон появился во внутреннем дворике замка, когда Гяур уже с удивлением осматривал обновленную стену, заново вымощенную брусчатку, восстановленный верхний этаж флигеля. Он помнил, что, уезжая во Францию, оставлял здесь не замок, а руины. И теперь с радостью подмечал, что все бойницы и башни восстановлены, появились новые хозяйственные пристройки.
— И все-таки вы вернулись, князь?! — мрачно обрадовался Ярлгсон. Он был чуть пониже ростом, чем его земляк Эриксон, зато непомерно выпяченная грудь казалась прикрытой толстыми латами. И ступал он, словно закованный в броню рыцарь, который только что сошел с коня. — Этот замок истосковался по вам, по хозяину, господин князь. С тех пор, как от нас ушел Януш Корчак, последний его владелец, он совсем осиротел.
— Мы возродим его, Ярлгсон. Вижу, вы зря времени не теряли. Почти весь замок обновлен.
— Здесь еще много работы. Но я всегда считал, что замок «Гяур» должен быть достойным своего князя.
Вместе они обошли все строения, поднимались на крепостные стены, спускались в подземелья. И наконец, оставшись только вдвоем, через тайный ход вошли в подвал, в котором хранились драгоценности. Ключом от этого тайника, его секретом, а следовательно, и доступом к драгоценностям, владел только Ярлгсон.
— Значительная часть вашего состояния была истрачена, — предупредил норманн, открывая перед князем заветный сундук. — Реставрация замка, осада, содержание обитателей…
— Странно, что здесь вообще что-либо осталось, — довольно равнодушно заметил Гяур.
— Но мы многое сэкономили. Когда польские войска прижали повстанцев к стенам замка, Джафар, литовский татарин, ночью провел через тайный ход десятерых из них. Мы не выдали пленных войскам, а разоружили и спрятали их в подземелье. В благодарность за спасение они потом полгода отстраивали замок только за питание и одежду. Вместе с теми двумя разбойниками — Орчиком и Гутой.
— Они все еще в замке?
— Отправились вместе с княгиней Властой в ее имение, чтобы оградить крепостной стеной хотя бы ее дом. С ними же поехало четверо оставшихся у нас повстанцев.
— Уж не ввели ли вы здесь рабство, Ярлгсон?
— Эти остались сами. Боялись возвращаться в родные края. Стали нашими, то есть вашими, извините, слугами. Кроме того, у нас появился еще один работник, германец Кюргер из Померании. С его помощью мы отремонтировали принадлежавшую вам мельницу, купили довольно большой участок пашни — тут один местный помещик разорился, и часть леса. Надеемся, что к нынешней осени наш померанец сумеет не только окупить расходы на землю, но и получить небольшую прибыль.
— Я тронут, Ярлгсон, — обнял его за плечи Гяур. — Вы непревзойденный управитель. Мне стыдно, что мое появление в замке не принесет вам ничего, кроме убытков. Во Франции мои дела тоже вроде бы процветают, но кошелек мой полнее от этого не становится. Скорее наоборот, — рассмеялся князь.
— Вы пополните его, насколько сочтете нужным. Никакие богатства не стоят того, чтобы вы, князь, хоть в чем-то ощущали нужду. Тем более что мы надеемся разбогатеть еще и за счет нашего заезжего двора.
— Какого еще двора? — не понял князь.
Швед вывел его на крепостную стену, выходящую в сторону села, и указал на три появившихся у нее строения.
— Владения Джафара, — объяснил он. — Сразу после восстания, пока по окрестностям еще слонялись группы гайдуков, мы устроили небольшой, временный заезжий двор прямо здесь, в крепости. Но потом поняли, что дело это выгодное. Теперь там, — кивнул он в стороне строений, — расположены гостиница, конюшня и трактир. Но родовитые аристократы по-прежнему могут ночевать в нескольких комнатах замка, на осадном дворе. Только за более высокую плату.
Гяур был поражен. Он понимал, что его собственной фантазии не хватило бы ни на одно из этих предприятий. Находись он все это время в замке, так и жил бы посреди руин.
— Я пробуду здесь три дня, — проговорил генерал так, словно испрашивал у Ярлгсона разрешения остановиться в собственном доме. — Всего три. Нужно привыкнуть к этим стенам, пейзажам, открывающимся из окон и бойниц замка. К мысли о том, что у меня тоже есть свое пристанище.
— Здесь красивые места, князь Гяур. Воздух, как в Швеции. Нигде в этой болотной стране не найдете вы такого чистого и здорового воздуха — это я вам говорю. Оставайтесь здесь не на время, навсегда.
— Я давно подозревал, что ты мечтаешь замуровать меня в одной из башен моего же замка, Ярлгсон. И теперь понимаю, что подозрения мои оправданы.
19
Теперь Хмельницкому уже окончательно стало ясно, что первый натиск штурмового отряда оказался отбитым, и пора отводить людей от крепости, чтобы не нести ненужных потерь. Распорядившись об этом, он продолжал осматривать Кодак с высоты прибрежного холма, не обращая при этом внимания на вспенивавшие днепровский плес ядра, коими крепостные бомбардиры пытались взорвать командующего повстанцами вместе с Казачьей Могилой, на которой гарцевал сейчас его конь.
Неудачу своих штурмовых сотен Хмельницкий воспринял с тем же философским спокойствием, с каким воспринимал бездарную пристрелку бомбардиров. Он и не рассчитывал на быстрый успех двух своих рот. Ликуя на стенах крепости, насмешливо потрясая над головами оружием и улюлюкая вслед откатывавшимся казакам, польские пехотинцы и германские рейтары еще, очевидно, не поняли, что первый штурм был всего лишь разведкой боем. На нее гетман Хмельницкий бросил две свои тыловые сотни, в которые были собраны стареющие, почти не обученные воинскому мастерству крестьяне да обозники, жаждавшие, однако, доказать всему славному рыцарству, что их воинские потуги явно недооценивают.
— Ну что, гетман, — показался на склоне возвышенности полковник Кривонос, — после разведывательного натиска за этими стенами тайны для нас уже не существует? — осадил он коня в нескольких метрах от командующего. — Пора бросать в бой казачью гвардию.
Хмельницкий осматривал в подзорную трубу башни и валы крепости и молчал. Ему вдруг вспомнилось, как он впервые оказался в этой крепости. Это случилось еще в те дни, когда он появился под стенами Кодака в свите тогдашнего великого коронного гетмана Станислава Конецпольского, по поручению и под присмотром которого фортификатор де Боплан возводил сию крепость.
Вместе с французским инженером и еще несколькими казачьими офицерами реестра Хмельницкий почти час осматривал этот выстроенный из красноватого гранита в виде пятиугольной звезды укрепленный замок. Окаймленный мощными наружными башнями и артиллерийскими бастионами, грозно возвышавшимися над высокими каменистыми валами и широким рвом, он, наверное, казался тогда Конецпольскому совершенно неприступным.
Когда осмотр был завершен, гетман и де Боплан неожиданно подошли к стоявшему чуть в стороне от остальных офицеров Хмельницкому и, словно бы не замечая его, коронный гетман самодовольно сказал французу:
— Абсолютно уверен, господин де Боплан, что взять штурмом это ваше творение казаки так никогда и не смогут. Не говоря уже о татарах, которые вообще не решаются приближаться к подобным крепостям.
— Разве что прибегнут к длительной осаде, — скромно согласился фортификатор.
— Ну, слишком долго осаждать эту крепость мы им попросту не позволим. Запасы пороха и продовольствия в ней всегда будут таковыми, что их хватило до прибытия подкрепления.
— Это очень важно, — согласился де Боплан, пребывавший в прескверном настроении. Потом он признался Хмельницкому, что в подобной мрачности находился всегда, когда завершал строительство крепости или реконструкцию какого-либо замка. В очередной раз оказавшись не у дел, он начинал чувствовать себя никому не нужным. — Поскольку весь мой опыт подсказывает, что подкрепления, идущие к осажденным крепостям, в большинстве случаев опаздывают.
— Слушая ваши мрачные пророчества, можно подумать, что вы возвели не мощную крепость, а лагерь из казачьих повозок, — недовольно пробрюзжал Конецпольский, гордившийся крепостью так, словно это он начертил план и собственноручно возвел на днепровском берегу гранитное чудо, становившееся отныне самым южным форпостом Речи Посполитой.
— Иногда лагеря из повозок бывают не менее неприступными.
— Давайте лучше попытаемся взглянуть на этот замок глазами будущего казачьего гетмана, — напомнил Конецпольский французу о стоявшем рядом Хмельницком. — Что скажете, господин генеральный писарь, как вам эта крепость? Небось повнушительнее, чем Каменец? Рискнули бы взять ее штурмом?
— Не только бы рискнул, но и взял бы.
— С казачьей пехотой да против двадцати восьми крепостных орудий и нескольких тысяч ружей и фальконетов?
— Видите ли, господин коронный гетман, — ответил Хмельницкий, с пренебрежительной улыбкой перейдя на латынь. — Как говорили в таких случаях древние, «что руками сделано, то руками и будет разрушено».
Конецпольский подозрительно оглянулся на маявшихся в невостребованности казачьих офицеров, будто подозревал, что эти несколько человек ринутся на приступ замка сейчас же.
— Потому что не о защите этой твердыни государства польского думаете, — гневно изрек он. — Нет, господин Хмельницкий, существуют крепости, которые вечны так же, как вечны империи, их сотворившие. Символами вечности они остаются даже тогда, когда враги превращают их в руины.
— Красиво сказано, господин Конецпольский. Мудро. Только вряд ли это о Кодаке.
…И вот теперь штурмовые сотни отходили к гряде небольших холмов, а орудия Кодака победно палили им вслед. Однако на гребнях холмов уже появились передовые отряды трех полков, которым надлежало ринуться на настоящий штурм, причем сразу с трех сторон. В то же время десятки лодок и больших плотов начали блокировать Кодак со стороны Днепра. Их экипажи не только перекрывали путь подкреплению, которое могло прибыть по реке, но и готовились имитировать нападение на крепость, чтобы отвлечь на себя хоть какую-то часть гарнизона.
— Что, гетман, пора? — нетерпеливо привстал в стременах полковник Кривонос. — Нельзя давать полякам передышки, она смертельно вредна им.
Хмельницкий прислушался к очередному залпу крепостных орудий, ударивших в этот раз по плотам и лодкам. Осажденные поняли, какую опасность таят эти «речные казаки», и заметно занервничали.
— А мы не полякам, мы себе дадим передышку. Разошли вестовых и прикажи прекратить штурм.
— Но мы не должны застревать здесь. Дня через два-три поляки могут прислать сюда большой отряд, возможно, целый корпус.
Хмельницкий с философской грустью взглянул на возвышавшуюся перед ним мощную крепостную стену, на выдвигавшиеся к ней по луговой долине штурмовые отряды, тащившие огромные лестницы словно кресты, с которыми надлежало подниматься на Голгофу; прислушался к артиллерийской дуэли, в которой три казачьи пушчонки противостояли по крайней мере двадцати пяти польским.
— Не имея артиллерии, мы действительно увязнем в этих оврагах и в обмен на гору камня положим горы своих воинов. Тебе нужна такая победа, полковник?
— Но иного способа не существует, — пожал плечами Кривонос, не понимая, к чему клонит командующий. — Ведь штурмовал же этот замок гетман Сулыма. И ничего, взял, и крепость тогда почти полностью разрушил…
— Чем закончились эти его штурмы, тебе известно не хуже, чем мне, — в Варшаве на плахе.
— Это случилось уже после штурма.
— Пусть небольшие группы повстанцев еще несколько раз подойдут к валам, но лишь для того, чтобы поляки слегка обстреляли новобранцев. Только для этого. На штурм не идти, разить гарнизон из ружей и фальконетов. Остальным силам отступить за холмы и рассредоточиться.
— Начинать святое дело с поражения?! — все еще не верил Кривонос в то, что Хмельницкий вот так, запросто, возьмет и отрешится от штурма ненавистной для всех казаков польской крепости. — Нам нужна победа, гетман. Здесь, под этими стенами, — указывал он острием сабли на мощные башни Кодака, — нам нужна только победа, весть о которой наши тайные гонцы могли бы тотчас же разнести по всей Украине. Только тогда народ поверит, что мы не просто еще одна ватага, решившая поразмяться в легких баталиях, а настоящая повстанческая армия. Вспомнит Сулыму — и поверит.
— Все, что ты говоришь, полковник, верно. И все же мы оставим у крепости не более двухсот человек [13], — настаивал на своем Хмельницкий. — Чтобы они мельтешили на виду у гарнизона, не подпуская к крепости никакие обозы. И запомни, полковник, мы начали эту войну не для того, чтобы перед нашими войсками пала какая-то затерянная в степях крепость, а чтобы под их натиском пала сама Польша. Это не одно и то же, полковник, не одно и то же.
20
На эту карету в Черкассах мало кто обратил бы внимания, если бы не украшавший ее передние и задние стенки королевский герб. Она появилась на улицах города, который вот уже несколько месяцев был ставкой коронного и польного гетманов, в сопровождении тридцати крылатых гусар и десяти закованных в броню литовских татар-лучников — но мало ли в то время прибывало в Черкассы карет и обозов!
Многие шляхтичи являлись на зов коронного гетмана не просто с личной охраной, но и с целыми хоругвями наемников, слуг и воинов дворянского ополчения своего края. Но вот королевский герб… Даже коронный гетман имел право только на герб своего рода да на усиленную охрану. В карете с королевским гербом в этой имперской глуши мог появиться только воин из королевского рода или же комиссар короля по особым поручениям, облеченный особой королевской властью.
Постовые и дозорные разъезды эту карету останавливать не решались. А если кому-то, по серости его душевной, и приходило такое в голову, то объяснялся с ним начальник конвоя ротмистр Колевский, предпочитавший вообще ни с кем не объясняться. Или же объясняться так, что у интересующегося мгновенно исчезал всякий интерес к карете и ее высокородному таинственному обитателю.
Время от времени карета останавливалась у одного из домов, в котором квартировал тот или иной офицер, и из нее выходил невысокий человек в черном дорожном плаще, черной шляпе и с длинной черной шалью вокруг шеи. Он никогда не входил в дом. Ротмистр Колевский вызывал офицера во двор и тут же представлял его тайному королевскому советнику господину Вуйцеховскому, прибывшему из Варшавы с особым поручением короля и коронного канцлера князя Оссолинского.
Офицер — как правило, высокородный шляхтич — с недоумением смотрел на черного человечка в гражданском, почти карлика, с трепетом ожидая услышать нечто такое, что объяснило бы интерес к нему тайного советника, а следовательно, канцлера и даже самого государя. Но Коронный Карлик стоял перед ним, запрокинув голову и спокойно, с невозмутимостью палача, всматривался в лицо. При этом Вуйцеховский не чувствовал себя неловко оттого, что выглядит карликом, что он гражданский и что ему, по существу, нечего сказать вызванным к нему полковнику, подполковнику или майору.
Он всматривался в глаза офицера с таким искренним, неподдельным интересом, словно видел перед собой восставшего из праха Стефана Батория. И офицер постепенно поддавался гипнотической силе его взгляда и его молчания. Он начинал что-то бормотать по поводу того, сколько войска ему удалось собрать. Что повстанцы уже недалеко и что, если их не остановить где-то здесь, на подступах к Черкассам, они пойдут на Киев, а то и сразу двинут на Каменец и даже на Львов.
Он говорил и говорил, ожидая хоть что-нибудь услышать в ответ, уловить хоть какую-то реакцию. Но ее не было. Лицо Коронного Карлика оставалось безмятежно-равнодушным — и к офицеру, и к тому, что он говорил, и к тому, что, собственно, происходило сейчас в Украине.
Так и не произнеся ни слова, тайный советник короля и коронного канцлера, комиссар Его Величества по особым поручениям переводил взгляд с лица собеседника на небо словно молил, чтобы оно наконец-то заставило офицера умолкнуть, поворачивался, и так же молча, не спеша безмятежно возвращался к своей карете. После этого даже офицеры с очень крепкими нервами отчаянно крутили головами, пытаясь понять, кто из них двоих идиот и как им следует истолковывать визит этого гнома?
Когда на второй день слухи о странной карете с королевским гербом и еще более странном визитере из Варшавы дошли до коронного гетмана графа Николая Потоцкого, он сразу же понял, что «варшавский карлик в черном», как успели окрестить Вуйцеховского в Черкассах, есть не кто иной, как Коронный Карлик. Гетман тотчас же разослал гонцов во все полки выяснить, с кем этот черный гном встречался, что говорил, а главное, о чем расспрашивал. И был потрясен, узнав, что Коронный Карлик, в общем-то, никому ничего не говорил и ни о чем не расспрашивал, а лишь выслушивал трепетные доклады командиров, как выслушивают лепет сумасшедших.
«Не зря Оссолинский подослал его, не зря… — обиженно скрежетал зубами старый вояка, заряжаясь подозрением. Успев побывать во многих сражениях, он так и не сумел привыкнуть к придворным баталиям, в которых князь Оссолинский неизменно представал непревзойденным стратегом. — Канцлер, пся крев! Чего он суется сюда? Какого дьявола посылает своих шутов, вместо того чтобы срочно слать подкрепление?»
— Где этот… в черном?! — наконец разразился гетман, коршуном налетая на докладывавшего ему офицера-порученца графа Торунского.
— В городе. В Черкассах, ваша ясновельможность.
— Знаю, что не в Риме. Где именно? Кто его приютил?
— Госпожа Заславская. Вдова полковника.
— Лярва она, а не вдова. Но имение у нее порядочное. С польным гетманом Карлик уже встречался?
— Пока что нет.
— Когда я окончательно решусь вздернуть его, это добавит ему лишний обмылок.
— Вздернуть польного гетмана? — омертвевшими губами пробормотал Торунский.
— И его — тоже. Нет гарантии, что Оссолинский не взялся перессорить нас между собой. А сделать это несложно, поскольку Калиновский видит себя с булавой коронного гетмана, как монашка — в обнимку со святым Павлом.
Торунский — рослый, краснощекий тридцатипятилетний толстяк — по-драгунски расхохотался. Ему явно импонировал способ мышления гетмана. Как и совершенно ошеломляющий способ выражения своих мыслей.
— И что, господин Вуйцеховский не собирается добиваться моей аудиенции? — наконец-то спросил Потоцкий о том, ради чего в очередной раз затеял со своим адъютантом разговор о Коронном Карлике.
— Во всяком случае, до сих пор никак не выразил своего желания.
— Он что, решил, что это я стану добиваться аудиенции у него?
— Я кое-что успел разузнать об этом человеке. Говорят, что добиться у него аудиенции не всегда удается даже королю, — подтвердил майор свою репутацию «бесстрашного кретина».
— Тогда сделайте так, чтобы его привели, нет, приволокли сюда и швырнули к моим ногам. Как шпиона повстанцев. Или турецкого лазутчика. А то и беглого каторжника. На ваш выбор, граф. Но сегодня вечером он должен быть здесь, в моей резиденции, у моих ног.
— Человек, который появляется в ставке коронного гетмана, на двое суток откладывая визит к нему, очевидно, полагает, что кареты с гербом короля Польши и охранной грамоты короля, подкрепленной письмом коронного канцлера, вполне достаточно, чтобы его не тронули даже казаки Хмельницкого, не говоря уже об офицерах коронного гетмана, — столь же дипломатично, сколь и бестактно, напомнил Потоцкому его адъютант.
21
В Ратоборово Гяур прибыл под вечер. Над усадьбой витала непорочная сельская тишина. Омытые первым весенним дождем деревья сладостно дремали в черной неподвижности все еще не оживших крон, а над Сатанинским холмом медленно полыхало пламя огромного костра.
— Это что за огнище? — насторожился князь, едва оказавшись за недавно выложенной из камня, еще не завершенной надвратной аркой. — Что там происходит?
— Костер, — пожал плечами Хозар.
— Но это костер на Сатанинском холме.
— На Сатанинском, — спокойно подтвердил ротмистр. — Просто так на нем костров не зажигают.
— Просто так — нет, — молвил Хозар, и только тогда словно бы вырвался из своей тягостной дремы. — А что означает это огнище?
Пригнувшись к гриве, чтобы не задевать головой ветки, Хозар помчался выяснять, кто разложил этот колдовской костер. Но Гяур и сам не удержался, пустил коня напрямик, петляя между кронами деревьев. Слишком хорошо запомнился ему погребальный костер на вершине этого холма в ночь смерти слепой Ольгицы. Слишком мрачными представали услышанные потом от слуг княгини легенды.
Подниматься на холм в седле Гяуру показалось святотатством. Оставив коня, он по узкой тропинке взбежал на вершину, обогнав при этом Хозара.
Отсюда, с небольшого плато, холм показался значительно выше, чем был на самом деле. Гяур вдруг ощутил его почти головокружительное поднебесье.
Костер полыхал между землей и небом, и женская фигура в легком коротеньком тулупчике, застывшая на нависшей над водопадом каменной площадке, представала перед ним во всей своей призрачной ирреальности. Хозар и остальные спутники генерала остались там, у подножия, и теперь их тоже словно бы не существовало.
На появление князя Власта внимания не обратила. Она стояла между огнем и водопадом и, плененная этими двумя стихиями, отрешенно всматривалась куда-то вдаль — то ли в разливающийся за пенящимся водопадом плес реки, то ли в небесное видение.
Первым желанием Гяура было подойти к женщине, обнять, но ему вдруг показалось, что стоит приблизиться еще хотя бы на шаг, и случится то самое страшное, что только может случиться на Сатанинском холме.
Не желая испытывать судьбу, Гяур уселся в каменное кресло, которое, по названию холма, тоже считали сатанинским, и несколько минут безмолвно наблюдал за непонятным ему, незримым таинством, проходившим на краю выступа. Абрис фигуры Власты очерчивался пламенем костра. Освещенные луной небеса куполом зависали над холмом и водопадом, озвучивая всю эту огненно-небесную симфонию холодным гулом преисподней…
Князю уже приходилось слышать, что на Сатанинском холме на человека порой снисходит то ли блуд, то ли какое-то неземное озарение, однако воспринял это как еще одну легенду, за которой не стоит ничего, кроме… легенды. Но сейчас, когда перед глазами его неожиданно возникла огромная сиреневато-розовая полусфера, он даже не понял, что сознание его преодолевает ту грань, за которой реальное переходит в полусон.
Это продолжалось недолго, и в то же время будто целую вечность. Поглощенный неведомой силой полусферы, он парил над рекой, над ярко-зеленым лугом, над огромным водопадом, словно бы низвергающимся из-под небес и пенно остывающим где-то в глубине материка. И все, что открывалось Гяуру, представало перед ним величественным и прекрасным.
Но потом зелень луга вдруг покрылась дымкой, и сквозь нее, будто в волшебном зеркале, князь увидел бурлящее где-то вдалеке сражение и как бы со стороны — самого себя во главе большого отряда. Затем последовал ослепительный взрыв ядра, и Гяур ощутил, что предплечье его рассечено осколком. А еще — абордажная схватка на борту какого-то корабля. И он на палубе, посреди штормящего океана… Пальмы на берегу.
«Берег, завещанный тебе командором Морано…» — неожиданно прозвучал неведомо чей голос. Он исходил откуда-то из глубины самой полусферы, негромкий, успокаивающий, завлекающий.
— Разве я когда-нибудь достигну его? — спросил Гяур.
— Судьба занесет тебя к нему не по твоей воле. Но ты не противься этому. Ты через многое должен пройти и через Африканскую Нормандию — тоже.
— Зачем?
Вопрос оказался бы неожиданным не только для существа, владычествующего божественной полусферой, но и для самого Господа. Поэтому молчание Божьего гласа не удивило князя.
— Так предначертано.
— Почему? — Вновь длительное молчание. Поняв, что вопрос его снова оказался за некоей чертой рокового запрета, Гяур изменил его: — Кем предначертано?
— Высшими Силами.
— Кто же тогда вы? Кто повелевает мною?
— Высшие Силы. Те, кому мы покровительствуем на земле, называют нас только так.
— Значит, вы — Бог.
— Бог сотворен вами, грешными, — даже в этом суровом космическом полубреду Гяур уловил в вещавшем ему голосе откровенную иронию. — Молится тот, кто верит, а верит тот, кто молится…
Перед князем вновь и вновь возникали какие-то картины, словно бы выхваченные памятью из его собственного прошлого, но еще никогда не прожитые им. И постепенно Гяур начал понимать, что кто-то, всезнающий и всемогущий, прокручивает перед ним его будущее, будто бы призывая: «Будь смел! Не бойся своей судьбы. Несмотря на все опасения и тяготы, она величественна и прекрасна. Как величественна и прекрасна сама жизнь».
…Стены крепости или замка. Нет, скорее все же замка. Усеянное цветами поле. Он и Власта ловят коня и, смеясь, подсаживают на стремя мальчишку лет двенадцати. Со стороны за этим наблюдает черноволосая девушка.
— Это моя семья? — удивленно спросил Гяур.
— Приучай сына к седлу. Князь Одар-Гяур Второй будет великим воином.
— Но у меня нет сына.
Молчание.
— У меня нет сына! — крикнул Гяур, чувствуя, что мистический полусон развеивается, значит, отвечать будет некому.
— Сына? — ласково спросила Власта. Очнувшись, Гяур увидел, что она присела перед ним и, обхватив ладонями его лицо, всматривается в глаза. — Почему ты кричишь на весь мир, что у тебя нет сына? — рассмеялась она. — Кому жалуешься?
— Но там… сейчас ты ее увидишь. — Гяур взглянул в поднебесье, однако никакой полусферы, вообще чего-нибудь такого… там не было. — Понимаешь, мне явили сына. Те, Высшие Силы, явили мне…
— Да будет у тебя сын, будет! — все еще смеясь, заверила его Власта. — Возможно, даже не один. А дочь уже есть.
— Но там… Я видел. В сфере…
— Ты видел, как мы приучали к седлу гордого князя Гяура-Победителя? Я тоже видела. Только к подобным видениям я уже привыкла. И потом, кто сказал, что у нас не может быть сына? Коль уж ты вспомнил обо мне и не поленился навестить мое убогое имение.
Гяур потер ладонью лицо и яростно повертел головой, словно пытался развеять остатки сна. Однако ему это не удавалось.
— Я не мог не заехать. Меня все время тянуло сюда. В конце концов я должен был увидеть тебя…
— И свою дочь.
— И дочь, — рассеянно подтвердил Гяур. — Ярлгсон рассказывал мне, как ты спасалась в Грабове… вместе с дочерью.
— С твоей дочерью, милый, — прикоснулась челом к его челу.
— С моей дочерью, — словно завороженный повторил князь. — С нашей.
— Ну, слава Богу, дошло, что с нашей.
Власта потерлась кончиком носа о его нос. Прикоснулась губами к его губам, припала к груди.
— Как же я боялась, что ты не признаешь ее своей.
— Почему боялась? — попытался отшутиться князь. — Ты ведь у нас всевидящая.
— Там, где начинаются сугубо женские страхи, там кончается не только здравый человеческий смысл, но воля Высших Сил, поэтому приходится оставаться наедине с собой.
Прижавшись друг к другу, они сидели, овеваемые дымом угасающего костра и рокотом водопада. Им было хорошо вдвоем, как бывает хорошо только людям, познавшим, что такое разлука, и не желающим больше расставаться ни на один день.
— И все же, что это было, Власта, — сиреневый шар, некая полусфера, какие-то видения…
— Мне очень хотелось, чтобы ты увидел все то, что увидел.
— То есть ты знала, что я приехал. Мне показалось, что ты не заметила моего появления.
— С трудом удалось уговорить Учителя, чтобы слегка озарил тебя будущим.
— «Озарил будущим»… Какая это непостижимая способность. Как часто мы со страхом и любопытством заглядываем в него, осознавая свое полное бессилие перед судьбой.
— Но сегодня это произошло.
— Сегодня — д…?а. Где она… дочь?
— На дворе уже наступила ночь, милый, — мягко улыбнулась Власта, поднимаясь и беря его за руку. — Самым большим открытием для тебя станет то, что в такое время дети обычно спят.
Они еще немного постояли, глядя в огонь, и начали медленно спускаться вниз. Прежде чем ступить на тропу, Власта низко поклонилась костру и прошептала какие-то слова — то ли молитвы, то ли заклинания.
— Это в память об Ольгице? — кивнул он в сторону пламени.
— Время от времени мы встречаемся на этом холме, у нашего вещего костра.
— И сегодня тоже встречались?
— Когда я зажигаю костер на Сатанинском холме, ей легче и спокойнее появляться в этом мире.
— «Спокойнее»? Ты имела в виду именно это? Как тебя понять?
— Мне трудно объяснить, что и как происходит.
Проходя в комнатку княжны, они неосторожно разбудили дежурившую в соседней комнатке няню, однако Власта быстро успокоила ее и куда-то отослала.
Ребенок лежал под голубоватым шелковым куполом, сквозь который едва проникал свет. Личико его было спокойным и благодушным. Едва заметная улыбка, игравшая на губах, представала отблеском только ей доступных сновидений.
— Тебе все еще не верится, что это твоя дочь? — прижалась к Гяуру.
— Зато я точно знаю, что она твоя. И этого достаточно.
— Неправда. Только осознав, что здесь растет твоя дочь, ты осознаешь и то, что здесь находится твой дом. Именно здесь, и нигде больше.
Гяур склонился и неумело, опасливо поцеловал малышку в щечку. Она была удивительно похожа на Власту. «Продолжение колдовского племени», — с нежностью подумал он. С тех пор как Гяур познакомился с Властой и понял, что за ней, как и за Ольгицей, стоят не злые духи, а творящие добро Высшие Силы, их колдовство воспринималось им совершенно по-иному, чем трактовала церковь.
— Но ты ведь понимаешь, что семьянин из меня не получится. Сегодня я здесь, завтра в Диком поле, послезавтра — во Франции.
— Иногда у меня создается впечатление, милый, что, где бы ты ни находился, все равно остаешься во Франции, — незло, с шутливой грустью упрекнула его Власта. — Это-то меня больше всего удручает. Но должна предупредить тебя…
Гяур насторожился, почувствовав, что по спине его прошла струя внутреннего холодка.
— Хоть сейчас ты могла бы не пророчествовать? Хоть на какое-то время способна отречься от своего дара?
— Колдовской дар здесь ни при чем. Такое тебе предскажет любая женщина, которая когда-либо рожала. Рано или поздно тебе захочется, чтобы это удивительное создание, которое со временем превратится в первую красавицу Польши, считало тебя своим отцом. Так вот, мой тебе совет: позаботься об этом уже сейчас.
Их взгляды встретились, и князь уловил на ее лице едва заметную улыбку — доверительную и в то же время упоительно-хитрую.
— Тебе нужны еще какие-то разъяснения, милый?
— Коварная ты. Впрочем, как и все колдуньи.
— Чтобы прослыть коварной, вовсе не обязательно быть колдуньей, — пожала плечами Власта.
22
В приемной командующего Коронный Карлик появился утром, когда коронный гетман еще только приходил в себя после ночного застолья и сумбурного, как вся его походная жизнь, нервного сна.
— Тайный советник Его Величества. С письмом коронного канцлера Оссолинского, — торжествующе доложил Торунский, наблюдая, как обрюзгший, с отвисшим животом и такими же мешковато дряблыми щеками командующий тщетно пытается осознать бессмысленную бренность доставшегося ему мира.
Каждое утро здесь, в Черкассах, граф Потоцкий просыпался с покаянным признанием того, что войск у него погибельно мало. Слепленный из разрозненных, плохо обученных отрядов дворянского ополчения, случайно подвернувшихся рот окончательно обленившихся наемников да полуиссеченных в предыдущих схватках драгунских и уланских эскадронов экспедиционный корпус его скорее напоминает рассеянный на полсотни верст вокруг города табор кочевников, нежели на походный лагерь европейской армии.
— Откуда он взялся? — встревоженным, охрипшим голосом спросил Потоцкий, беспомощно осматриваясь, словно пытался вспомнить, где он уснул вечером и почему проснулся именно в этом, основательно отсыревшем за зиму, не протопленном помпезном зале, совершенно неприспособленном под спальню. — Вы ведь утверждали, что он исчез.
— Словно бы догадался, что его приказано найти и доставить, — виновато передернул плечами подполковник. — Сказать, что вы не можете принять его, ваша ясновельможность?
— Принять-то я смогу, — угрожающе проговорил гетман, порывисто поднимаясь со своего ложа и стягивая полы халата. — Вопрос в том, хватит ли у меня снисхождения для того, чтобы выпустить его отсюда, этого Коронного Карлика!
Прошло не менее получаса, прежде чем граф Потоцкий появился в приемной. Он уже был одет в генеральский мундир французского пошива, но лицо все еще принадлежало человеку, привыкшему к запойным кутежам и бессмысленной азартности карточных баталий.
Все время ожидания Коронный Карлик невозмутимо просидел в глубоком кресле, обращенном к окну, за которым разгоралась зеленым пламенем на весеннем солнце молодая, с еще несформировавшейся кроной ива. Даже когда вошел гетман, тайный советник все еще сидел с полузакрытыми глазами, задумчиво глядя на озаренные лучами ветви и вспоминая свою недавнюю встречу с королевой.
Ему вдруг показалось, что, прибыв в Черкассы, в ставку коронного гетмана, он допустил одну из самых страшных ошибок своей жизни. Ему следовало пристать к штабу восставших и ворваться в этот город вместе с гетманом Хмельницким. Чтобы затем возглавить карательный отряд восставших, который прошелся бы по деяниям и головам местной польской аристократии.
Нет, по натуре своей он не был бунтарем, и в этом смысле стихия повстанческой армии его не прельщала. Скорее наоборот, в нем жил и ждал своего часа великий диктатор Польши. Вуйцеховский всегда считал, что Варшава должна стать польским Римом. А Р? ечь Посполитая — основой Восточной Римской империи. Да, мысленно он так и называл эту взлелеянную в своих мечтах державу — «Восточная Римская империя».
Впрочем, Коронный Карлик не только придумал ей название. Он знал, как сделать, чтобы империя эта действительно состоялась. Его поражало коронованное бессилие короля, но еще больше — хамское всесилие и всевластие польской аристократии. Именно сочетание этого «коронованного бессилия» и «некоронованного хамского всевластия» и приводило польскую империю к ее окончательному упадку.
Коронный Карлик отлично понимал, что он не принадлежит к людям, способным прийти к власти в этом государстве. Но понимал и то, что все же обладает достаточной властью, чтобы, интригуя, навязывать канцлеру, коронному гетману и даже королю такие решения, какие были по душе лично ему. Он всегда оставался всемогущим Коронным Карликом, но точно так же все ныне власть имущие в Польше оставались всего лишь коронованными карликами… Ничтожными карликами, хотя и коронованными.
Вуйцеховский ни на минуту не сомневался, что, если бы королем стал он, порядок в этом государстве был бы наведен в течение трех месяцев. Коронный Карлик не мог объяснить, почему он избрал для себя этот срок, но верил в него, как правоверный христианин — в библейские семь дней сотворения мира.
Он поступил бы очень просто. Из наиболее преданных людей, патриотов, создал бы тайный отряд спасителей Речи Посполитой. Каждый в этом отряде считал бы, что кроме него подобное задание получили только два человека, действовавшие вместе с ним. И задание у тройки было бы предельно простым: убрать графа Потоцкого, князя Вишневецкого, графа Калиновского…
Убрав зарвавшихся аристократов, он все их владения передал бы наместникам короля, а в каждом городке, каждом старостатстве назначил бы своего комиссара…
— Вы позволяете себе сидеть, когда в комнату вошел коронный гетман? — пораженно воскликнул Потоцкий, остановившись посредине приемной.
Прежде чем ответить, Вуйцеховский перегнулся через подлокотник, чтобы разглядеть, кто это там, какой еще коронный гетман посмел потревожить его.
— Вообще-то я позволяю себе сидеть тогда, когда позволяю себе это, ваша светлость, — спокойно молвил он, неохотно расставаясь со своим креслом. — Но в данном случае я не просто сидел, а исповедовался перед королем и Богом.
— Вы? Исповедовались?!
— Во всяком случае, пытался понять, господин коронный гетман…
— И что же вы пытались «понять»? — с сарказмом поинтересовался Потоцкий.
— Что заставляет вас раздувать эту войну, при которой одни подданные короля будут сражаться с другими, не менее подданными
— Что?! — рассвирепел Потоцкий. — Так это, оказывается, я раздуваю войну?! Для того чтобы вы смели говорить подобное, вам понадобилось три дня бродить по окрестностям Черкасс, обсуждая приказы коронного гетмана с подчиненными ему офицерами?
— С подчиненными вам офицерами я не желал обсуждать даже капризы местной погоды. А прибыл сюда по приказу короля. С письмом коронного канцлера князя Оссолинского. Вот оно, — достал он из внутреннего кармана небольшой, порядочно измятый сверток.
Потоцкий придирчиво осмотрел две сургучные печати, словно подозревал, что они поддельные, и перевел взгляд на Вуйцеховского.
— Ну и какое же решение соизволил принять король? — спросил он, нерешительно вертя в руках послание канцлера. — Чем пожелал удивить мир? Он… велел передать мне что-то на словах?
— Велел посмотреть, что это за кавардак вы здесь устроили. И доложить обо всем, что будет увидено.
— И что же вами «увидено», господин королевский комиссар? — иронично поинтересовался Потоцкий.
— То же, что предполагал Его Величество король, — сухо, с убийственным спокойствием отчеканил Коронный Карлик.
— Что-то я не пойму вас, господин Вуйцеховский, — умерил граф свой пыл.
— Вы не совсем точно выразились, господин Потоцкий. Меня-то вы как раз понимаете. Вся сложность вашего положения заключается в том, что вы перестали понимать короля. Причем давно. И король чувствует это. Король это чувствует, господин коронный гетман, — появились в голосе Вуйцеховского откровенно угрожающие нотки.
Канцлер несколько секунд молча смотрел на Вуйцеховского, затем широким жестом пригласил его к стоящему рядом венскому столу и, позвав слугу, приказал принести вина и чего-нибудь съестного.
«Наконец-то он начал воспринимать меня, как подобает воспринимать гонца государя, да к тому же — комиссара и тайного советника, — самодовольно констатировал Коронный Карлик. — Ничего, еще немного, и я заставлю их припадать к этим ногам как к святым мощам».
— Значит, король недоволен тем, что я готовлюсь выступить против казаков? Против всей той повстанческой орды, которую собирает вокруг Сечи подлый клятвоотступник Хмельницкий? — оскорбленно проговорил командующий, глядя в пространство перед собой. — Голова его любимца, генерального писаря реестрового казачества, ему дороже.
— А вам не приходило на ум, господин коронный гетман, что Хмельницкий может собирать казаков и полки крестьян вовсе не для того, чтобы затевать войну против Польши?
— Для чего же тогда?
— А для того, чтобы двинуть войска против татар, а затем и турок.
— После того, как перебьет все польские гарнизоны? Пересадит на колья весь цвет польской шляхты, которая целые века удерживает этот край в границах Великой Польши?
— Думаю, король не стал бы возражать, если бы некоторые из местных, вконец обнаглевших, аристократов действительно оказались на кольях или в петлях. Король и канцлер получили тысячи жалоб на их непомерную жестокость не только по отношению к украинским крестьянам, ремесленникам, казакам, но даже к мелкопоместной шляхте.
— Но здесь не Варшава. Здесь не обойтись без силы, а иногда и жестокости. Мелкопоместное дворянство в украинских воеводствах в основном состоит из украинцев. Именно местные шляхтичи становятся казачьими офицерами, а затем и атаманами повстанческих отрядов.
— Но своей непомерной — подчеркиваю: непомерной жестокостью вы не усмиряете здешний люд, а, наоборот, провоцируете его на восстание. Я лично видел подписанные вами приказы, в которых вы обрекаете на гибель все семьи тех, кто ушел на Сечь. Уже казнены десятки таких семей.
— И казню еще столько же. Что же касается жалоб, то они были и всегда будут. Потому что местная нищета ненавидит польских дворян, и королю это хорошо известно. Поэтому жалобы меня не интересуют. Меня интересует другое: почему, по мнению короля и канцлера, — воинственно потряс он свертком, — я не могу получить из Варшавы никакого подкрепления? Я что, один обязан противостоять всей этой армии голодранцев?
Коронный Карлик загадочно улыбнулся и поднял свой кубок с вином. Командующий с ненавистью наблюдал, как он наслаждается божественным напитком, едва сдерживая себя, чтобы не вырвать кубок из руки Вуйцеховского и не выплеснуть остатки вина ему в лицо.
— Если бы мне позволено было давать вам советы, граф, я бы посоветовал вот что: накажите собственной властью чигиринского старосту Конецпольского, вздерните двоих-троих подстарост, снимите все те устрашающие прокламации, которые ваши последователи повесили на сельских и местечковых площадях, и пригласите Хмельницкого сюда, к себе, на переговоры.
— Что-что?! Вы советуете мне наказывать старост вместо того, чтобы объединять силы всей шляхты и идти против повстанцев?! — подхватился Потоцкий. И, склонившись над Коронным Карликом, который в своем низеньком кресле с очень высокой спинкой казался еще мизернее, чем был на самом деле, почти прорычал: — Да кто вы такой?! По какому праву вы смеете давать советы мне, великому коронному гетману?!
— А почему бы и не дать их? — окончательно обезоружил Вуйцеховский графа своей наглостью.
— Да потому, что вы — ничтожество! Потому что вы не имеете права соваться ко мне с какими бы то ни было советами!
— Увы, как тайному советнику, мне приходится давать их даже королю. И, как видите, государь давно смирился с этим, — довольно громко рассмеялся Вуйцеховский, что позволял себе крайне редко. — Если же обратиться к вашей персоне, коронный гетман, то можете быть уверены: это мой последний совет. Другое дело, что, вернувшись в Варшаву, я не удержусь от того, чтобы все же дать несколько советов Его Величеству. Всего несколько советов. Как, впрочем, и коронному канцлеру князю Оссолинскому.
— И что из этого следует? — набычился Потоцкий.
— Да ничего. Просто обязан буду дать им некоторые советы. Исключительно по долгу службы. А посему, позвольте откланяться.
23
Главнокомандующий уже завершал чтение длинного, выдержанного в самых резких, порой угрожающих тонах письма коронного канцлера Оссолинского, когда адъютант сообщил ему, что прибыл польный гетман Калиновский.
— Опять он? — проворчал Потоцкий, не отрываясь от чтения. — Какого черта ему нужно?
— Заместитель главнокомандующего узнал о письме и просит принять его.
— От кого это он мог узнать о письме? — насторожился Потоцкий, собиравшийся вообще скрыть, что такое письмо существует.
— Очевидно, от самого господина Вуйцеховского.
— Хоть бы кто-нибудь повесил этого карлика, — проскрипел зубами Потоцкий, с надеждой глядя на полусонного адъютанта. Словно ожидал, что тот сам займется казнью тайного советника короля. Но тут же добавил: — По какой-нибудь роковой ошибке, естественно, повесил…
— У нас такое случается, — задумчиво поскреб кончик мясистого носа адъютант. — Правда, у него слишком большая охрана.
— Тот, кто начинает рассуждать у виселицы, господин Торунский, сам заканчивает на ней, — нервно прервал его философствование главнокомандующий. — Пусть польный гетман войдет, но какое-то время помолчит.
Калиновский вошел, молчаливо поклонился главнокомандующему и, предупрежденный адъютантом, так же молча сел в кресло по ту сторону стола. Вечно багровое лицо его, испещренное гипертонической вязью капилляров, в эти минуты слегка побледнело словно присыпанная пеплом головня.
«Его Величеству королю и мне, — перечитывал коронный гетман письмо канцлера, — известно о приготовлениях Хмельницкого. Но все эти меры связаны с подготовкой казаков к войне против турок. Мы должны позволить казакам начать эту войну, ввязавшись в которую, они оставят в покое южные границы Речи Посполитой и в то же время решительно ослабят турецкие гарнизоны».
«Да он что, с ума сошел?!» — ужаснулся Потоцкий, только сейчас, вторично перечитывая письмо, понявший, что ему, по существу, в такой, слегка завуалированной, форме приказывают прекратить всякие действия против казаков. Такого в его практике еще не случалось. Наоборот, до сих пор любое, пусть даже самое незначительное, выступление украинских повстанцев использовалось тем же Оссолинским, другими сенаторами, как повод для жесточайших карательных мер, значительно превосходящих те, которых достаточно было, чтобы подавить восстание. Но тогда, что же произошло?
Вместо того чтобы требовать от главнокомандующего немедленно обрушиться на лагерь восставших, канцлер понуждал его наказать целый ряд подстарост и даже офицеров реестра, которые «прославились своей непомерной жестокостью, тем самым провоцируют бунт крестьян на украинских землях».
— По-моему, они там, в Варшаве, перепились, — зло отшвырнул Потоцкий послание канцлера и тупо уставился на своего заместителя. — У меня такое впечатление, что они попросту не понимают, что здесь происходит.
— Мы тоже не все понимаем, — обронил Мартин Калиновский.
— Князь Оссолинский заявил, что не направит нам ни одного полка подкрепления. Вместо него прибудет целый полк королевских комиссаров, которые станут разбираться и править суд по каждой жалобе, полученной королем из этих земель.
— Один из этих комиссаров, господин Вуйцеховский, уже давно разбирается с ними. Думаю, мы должны прислушаться к его совету. Если этой войны не желают ни канцлер, ни король, ни сенат, то почему желать ее должны мы?
— Но ведь начинаем ее не мы! Ее начинают казаки, — воинственно налегая кулаками на стол, поднимался коронный гетман. — Что вы предлагаете? Упасть к ногам Хмельницкого? Просить у этой нищеты перемирия?
— У нас мало войск, — решительно поднялся Калиновский, давая понять, что по этому поводу у него есть свое мнение, которое он намерен отстаивать. — Кроме того, мы ничего не знаем о силах, собранных Хмельницким, и тактике его борьбы. У нас ведь почти не ведется разведка. — Это уже был прямой упрек коронному гетману. Потоцкий заметил его. На любое замечание или возражение Калиновского он всегда реагировал крайне болезненно. Однако в этот раз промолчал. — К тому же мы не знаем, что предпримут татары. На чьей они стороне? Действительно ли они готовы к союзу с повстанцами или это всего лишь обычная азиатская хитрость?
— Обычная азиатская… Как еще они могут проявить себя? Узнав, что казаки начали войну против Речи Посполитой, они ударят им в тыл и помогут покончить с ними.
— А мои лазутчики только что донесли, что на помощь Хмельницкому уже прибыл отряд крымчаков. И что якобы полковник сам побывал в Крыму, где просил помощи у Ислам-Гирея и перекопского мурзы.
— И где же это войско? Покажите мне хотя бы одного крымчака. Да запорожские казаки скорее языки себе повырывают, чем побегут в Крым просить помощи у лютых врагов. Не стали бы они терпеть у себя гетмана, который бы попытался завести дружбу с ханом.
— Возможно, так они и повели бы себя, если бы не война с Польшей, ради победы над которой они готовы сдружиться с самим дьяволом…
— Все, господин польный гетман, все! Хватит! Мне надоели ваши бесконечные возражения. Прекратите выслушивать всякие байки и готовьтесь вести войска на Сечь.
Идя сюда, польный гетман знал, что Потоцкий настроен решительно и что спорить с ним бесполезно. Он не мог понять, чем вызвано это военное рвение графа, но подозревал, что старый коронный гетман желает использовать войну с казаками для того, чтобы показать Варшаве, что у него появилась достойная замена — в лице его сына Стефана.
«Очевидно, он считает, что должность коронного гетмана следует передавать по наследству. И это в Польше, где даже королевский титул не подлежит наследованию, поскольку государя избирает сейм!» — возмутился Калиновский. В конце концов не вечно же ему оставаться заместителем главнокомандующего. Пора бы уже и «полевому» гетману реально претендовать на титул коронного.
Только вспомнив о том, что к коронному гетману нужно идти через многотерпение польного, Калиновский усмирил свою гордыню и более или менее спокойно спросил:
— С какими же силами мы собираемся выступать против Хмельницкого?
— Считаете, что войск, собравшихся вокруг Черкасс, недостаточно?
— Их не просто недостаточно, их мало. Тем более что значительную часть наших войск составляют полки украинских реестровых казаков, и никто не знает, как они поведут себя в бою с полками повстанцев, сформированных в тех же землях, откуда происходят они сами. Словом, уверен, что без подкрепления нам вообще не следует выступать.
Потоцкий нервно разгладил короткие седеющие усы и, повернувшись лицом к польному гетману, лукаво всмотрелся ему в глаза.
— Вынужден утешить вас, господин Калиновский. Я не собираюсь бросать против восставших даже все имеющиеся у меня войска. Отправлю всего лишь два небольших корпуса. Первый поведет мой сын Стефан…
«Значит, все-таки Стефан… — остался доволен своей прозорливостью Калиновский. — …Которого коронный гетман уже пытается преподносить как “польского принца де Конде”».
— Второй, состоящий из реестровых казаков, двинется в путь под командованием реестрового гетмана Барабаша. Пусть казаки лихо бьют казаков. В общей численности пойдет не более восьми тысяч наших воинов.
Калиновский скептически хмыкнул. Он почти не сомневался в исходе этого похода. Самую страшную черту Потоцкого, которая не позволяла ему стать настоящим полководцем, определяла его непомерная аристократическая гордыня и столь же непомерная заносчивость. Дожив до ноющих старческих ран, солдатского ревматизма и опустошительного шарканья мозгов, Потоцкий так и не сумел усвоить одну жесткую фронтовую истину: военные игры не терпят амбиций. Они признают лишь суровый опыт и змеиную, приправленную мудрым риском, полководческую хитрость.
— Вы, господин Калиновский, пойдете вместе с корпусом Стефана, — вновь заговорил Потоцкий, восприняв молчание польного гетмана за покорное согласие. — Будучи его заместителем, вы получите право возглавить передовой отряд.
Запрокинув голову, Калиновский простонал так, словно пытался сдержать неутолимую зубную боль. Знал бы Потоцкий, какой «честью» одаривает его! Вести передовой отряд, возглавляемый этим сосунком, понятия не имеющим о тактике боя казаков и крымских татар!
— Мы оба очень рассчитываем на вашу решительность и боевой опыт. — Это устами Николая Потоцкого говорил уже не коронный гетман, а всего лишь отец. Пусть и славолюбивый, который в конечном итоге предпочитал иметь сына, пусть даже без славы победителя, чем славу победителя, но уже без сына.
— Воля ваша, господин коронный гетман. Однако мое отношение к этой войне вам известно.
— Но вы же не отказываетесь от участия в походе?
— Только потому, что нахожусь на военной службе и вынужден выполнять ваш приказ.
— Так, возможно, — проигнорировал он оговорки Калиновского, — у вас появился какой-то свой план, особый замысел? Можете предложить нечто такое, что позволило бы заманить восставших в ловушку?
— Извините, господин коронный, но у меня есть только один план, благодаря которому мы сможем победить в этой войне.
— Подтянуть наши войска к Кодаку?
— Перебросить их к крепости мы уже не успеем… Хмельницкий возьмет ее раньше, чем мы туда доберемся. Возможно, штурм начнется уже завтра на рассвете.
Потоцкий с гневом уставился на польного гетмана, подозревая, что тот скрывает от него такие сведения, которые помогли бы совершенно по-иному взглянуть и на силы восставших, и на их дальнейшие планы.
— Вы уверены в этом?
— Если бы восставшими казаками командовал я, то и трех миль не прошел бы вверх по Днепру, зная, что у меня в тылу остается гарнизон столь мощной крепости. Это же элементарные законы войны. Но речь сейчас не о них. Я знаю способ, с помощью которого можно перехитрить казаков. Следует немедленно начать переговоры с Хмельницким. Не мешало бы хоть немного ублажить его самолюбие, предоставив при этом королевским комиссарам возможность посбивать спесь с некоторых местных аристократов.
— То есть вы вновь подтверждаете, что в душе против похода на казаков?
— В конечном счете мои слова можно истолковать и таким образом, — мужественно признал Калиновский.
— В таком случае я вообще отстраняю вас от командования. И поставлю вопрос перед королем, канцлером и сеймом о том, можете ли вы оставаться польным гетманом. А пока позволю себе напомнить: здесь приказываю я. Только я. И любое неповиновение будет выжигаться каленым железом как измена!
Калиновский судорожно ухватился за эфес сабли и сжал его так, что, казалось, он расплавится в кулаке вместе с набрякшими венами.
— Вы просили моего совета, господин коронный гетман, — натужно прохрипел он. — Прошу не забывать, что только что вы получили самый мудрый совет из всех, на какие только способен человек, знающий не только цену храбрости, но и цену безумию.
— Хватит с меня советов, тайные и явные советники… — передернул плечами Потоцкий, вспомнив недавний разговор с Коронным Карликом. — Настала пора действовать.
24
На рассвете Хмельницкий сел на коня и отправился на луг, неподалеку от Сечи, на котором вчера состоялась его «коронация».
Только сейчас он по-настоящему понял, что произошло. Это свершилось: он избран гетманом запорожского казачества! Его и до этого дня называли гетманом, поскольку так было решено на совете повстанческих командиров. Но теперь это наименование стало узаконено казачьими традициями, поскольку он провозглашен гетманом Запорожской Сечи.
Объезжая выкошенную и вытоптанную тысячами ног равнину, он вспоминал, как вчера здесь, изъявляя свою волю и волю куреней, казацкие старшины кричали: «Хмельницкого — гетманом! Желаем видетъ гетманом славного казака Хмельницкого!»
Причем вел он себя на казачьем круге весьма сдержанно, воспринимая волю казаков как должное. Со стороны могло показаться, что ему вообще безразлично: изберут его или не изберут, поскольку пришел сюда, на Сечь, не за почестями, а ради того, чтобы начать святое дело. Изберут другого — признает его, чтобы пойти в бой под флагом того, другого. Но избрали его, значит, такова воля казачества…
Но так могло показаться только со стороны. На самом же деле никого иного в роли гетмана он не признал бы. Если бы допускал, что казаки назовут имя другого полковника или атамана, не решился бы на это казачье вече, а собрал бы свое, где-нибудь вне Сечи, на которое сошлись бы только верные ему повстанцы. И был бы по-настоящему провозглашен гетманом повстанческого войска. Конечно же на Сечи восприняли бы это за гордыню. Но тут уж гордыня на гордыню…
Однако вчера это все же произошло! Круг за кругом объезжая луг, — сечевая площадь не смогла бы вместить даже половины той казачьей пехоты, которая собралась здесь, поэтому решили проводить казачий совет на равнине, за пределами Сечи, — он вспоминал, как в честь его избрания казачьи сотни палили из мушкетов. Как сотрясали весеннее марево плавней все пятьдесят орудий сечевой крепости. И как запорожский кошевой атаман, до конца надеявшийся, что казаки все же изберут его — осунувшийся, с посеревшим лицом, униженный славой пришлого полковника, — вручал ему символы гетманской власти.
Такое приятно пережить еще раз, сейчас, на рассвете, когда сечевая крепость и все братство казачье, ставшее лагерем чуть дальше, на возвышенности, где посуше, еще блаженствует в похмельных снах вчерашнего праздника… Такое следовало пережить наедине с самим собой. Ибо то, что произошло вчера, принадлежит уже не ему, оно принадлежит истории Сечи, истории Украины, перьям летописцев.
«Итак, то, о чем ты порой даже мечтать боялся, свершилось, — сдержанно улыбался своим мыслям Хмельницкий, вырвавшись из почетного круга луговой славы и направляя коня туда, к степным холмам, подальше от Сечи, от временного лагеря «советников». — Я пришел сюда, на Сечь, униженным всеми, у кого достоин был быть в чести — королем, коронным гетманом, королевским судом, старостами и подстаростами… Я пришел сюда с группой преданнейших казаков и стоял у ворот крепости на коленях, испрашивая позволения вернуться в сечевое братство. И это братство раскрывало свои объятия неохотно, помня, что чины и отличия свои — полковника, генерального писаря, саблю из рук короля, — добывал не на Сечи, не за вольницу казачью сражаясь, а пребывая в услужении короне.
Но прошло всего лишь несколько месяцев, и казаки сами… призвали меня сюда, на сечевой совет, сами просили принять высшее достоинство казачье — булаву запорожского гетмана. Они упрашивали меня сделать это. Причем, видит бог, упрашивали не только потому, что так велит обычай, а потому, что не видели в своем кругу воина более достойного. Не видели они его — вот в чем заключается величие нового гетмана!»
Уж он-то прекрасно знал, сколько раз булава добывалась здесь в жестоком соперничестве, в заговорах, во лжи и подкупе казачьей старшины…
Хмельницкий не пошел на это. Он честно сказал им, зачем прибыл на Сечь, чего добивается и какова главная цель всей дальнейшей жизни. Избирая его, они знали, что избирают не просто гетмана Сечи, но полководца, который с первых же дней желает распространить свою власть далеко за пределами казачьей вольницы. И запорожцы единогласно объявили войну Польше — «за все те обиды и тяжести казацкие и всей Украины, от поляков творимые».
Теперь он имеет право обращаться к народу как гетман запорожского казачества. Теперь он может призывать народ к войне с Польшей, имея на то согласие Большого Казачьего Круга, чье решение всегда чтилось в Украине как святой закон для всякого православного.
— Господин полковник! — Задумавшись, Хмельницкий не сразу сообразил, кто его зовет. Осмотревшись, он увидел слева от себя, в небольшой плавневой рощице, двух казаков. Судя по мундирам, это были драгуны реестра. — Не опасайтесь нас, господин полковник! Мы посланы к вам с важной вестью!
Хмельницкий вновь осмотрелся вокруг. Казаков было только двое. Но там, за рощицей, могла оказаться большая засада. Эти двое могли быть всего лишь приманкой.
Развернув коня, он принял вправо, стараясь держаться поближе к гряде, за которой начиналась вечевая равнина, и прикидывая, успеет ли отойти, прежде чем казаки перережут ему путь к лагерю.
— Кто вы такие?!
— Казаки реестра, господин генеральный писарь!
«Кажется, они еще не знают, что я уже избран гетманом, — лихорадочно выяснял свои шансы Хмельницкий. Он совершенно не был готов к схватке. При нем не было даже пистолета. Да и к сабле рука тоже почему-то не тянулась. — Но если они не знают, что я избран гетманом, значит, и подосланы не как к гетману…»
— Кто вас послал?
Один казак остался на месте, другой подался навстречу ему, на ходу выбрасывая на землю пистолет и саблю.
— Я без оружия, господин полковник! Вы готовы выслушать меня?
— Подбери свою саблю. С каких пор я беседую только с безоружными? — горделиво молвил Хмельницкий. Ему неприятно было осознавать, что казаки заметили его растерянность и считают трусом.
Казак послушно спешился, подобрал оружие и, не садясь в седло, приблизился еще на несколько шагов.
— Мы посланы господином Вуйцеховским.
— Кем?! Чье это имя вы сейчас произнесли?
— Он назвался господином Вуйцеховским. Тайным советником короля.
— Ты лжешь, казак! — вспомнил гетман, что Коронный Карлик действительно принадлежит к роду Вуйцеховских. — Откуда ему здесь взяться? Какой он из себя?
— Скажу, как он сам велел сказать: «Маленький такой, весь в черном». — Вернулся казак в седло.
Услышав это, Хмельницкий вновь оглянулся на гряду холмов, за которой остался последний встретившийся ему казачий разъезд. Теперь гетману уже не хотелось, чтобы хоть один казак стал свидетелем его переговоров с реестровиками; чтобы он знал, что встречи с ним добивается сам Коронный Карлик.
— Где он сейчас?
— В двенадцати верстах отсюда, у зимника Есаульского.
— Рискнул настолько приблизиться к Сечи?
— Неподалеку застава реестровиков и польских драгун, которых посылают из Кодака. Кроме того, он является королевским комиссаром, обладающим охранной королевской грамотой.
— Ну, разве что он прибыл с грамотой… — иронично согласился Хмельницкий. «Уже в двенадцати верстах от Сечи! — лихорадочно прикидывал он. — Ох, как же некстати появился здесь этот тайный советник! Но в то же время появиться Вуйцеховский мог только по воле короля или королевы. Что, собственно, почти одно и то же. Почти…»
— Господин Вуйцеховский будет ждать вас сегодня и завтра. Два дня. И предупреждает, что в этой встрече вы заинтересованы значительно больше, чем он.
— Как же вы рассчитывали увидеться со мной?
— Думали выдать себя за реестровиков, перешедших к вам на службу, а уж потом…
— Ясно. В таком случае передайте Вуйцеховскому, что явлюсь к нему завтра утром. И сообщите, что теперь я уже гетман запорожцев, только вчера избран.
Казаки переглянулись и сняли шапки, чтобы, как подобает, склонить головы перед гетманом запорожцев.
— Когда пойдешь большой войной против татар или турок, то кликни, — молвил тот, что выезжал ему навстречу.
— С половиной полка к тебе придем, — добавил его товарищ.
— Считайте, что уже кликнул.
Казаки развернули коней и, стараясь держаться поближе к плавням, где в любое время можно было скрыться, умчались в степь.
«Вот такими вызовами к королю завершаются иногда триумфы запорожских гетманов, — рассмеялся им вслед Хмельницкий. — Появление в казачьих степях Коронного Карлика может означать только одно — что Владислав IV занервничал. Понял, что лишается сильного союзника, возможно, последнего в его королевстве преданного ему полководца».
Возвращаясь на Сечь, гетман уже раздумывал над тем, каким образом и под каким предлогом можно будет оставить казачий лагерь завтра ночью. Поняв, что найти убедительное объяснение своему вояжу вряд ли удастся, он решил сегодня же к вечеру вернуться на остров, на котором совсем недавно основал собственную резиденцию, в которой никому ничего объяснять не нужно будет.
«Занервничал король Владислав, занервничал…» — торжествовал он, еще не осознавая, что настоящая, его личная победа чудится ему не в избрании командующим восставшего казачества, не в признании атаманом бунтовщиков, а в том, что он все же заставил короля вновь обратиться к одному из лучших воинов своего королевства. Одному из своих лучших полковников.
25
Уже увидев первые проблески зари, медленно разгоравшиеся на оконном стекле, Гяур вновь закрыл глаза и попытался уснуть. Но вместо сна начали появляться видения: он — на палубе корабля, который пробирается по ночному каналу к занятому испанцами Дюнкерку; он — в одной из схваток на улицах какого-то французского города; каюта, в которой, пребывая в испанском плену, он ждал казни и с которой совершил дерзкий побег… И только после всех этих воинских терзаний ему явился берег Дуная, на котором, отплывая в Стамбул, он прощался с отцом и членами Тайного Совета Острова Русов, служившим его племени русичей неким подобием правительства или сейма.
Увлекшись этими картинками прошлого бытия, Одар-Гяур не слышал, как отворилась дверь и как ушедшая на ночь к себе в спальню Власта вновь появилась в его комнате.
— Это самое прекрасное утро в твоей жизни, разве не так? — прошептала она, забираясь к нему под легкое одеяло.
— Самое… — счастливо улыбнулся Гяур, ощущая рядом с собой нежное тепло женского тела.
— Ты никогда в жизни не испытывал такого блаженства, — внушала ему женщина, нежно обхватывая руками плечи и покрывая поцелуями лицо, шею, грудь…
— Такого — никогда…
— Повтори-ка эти слова, мною осчастливленный, только чуточку убедительнее.
— Повторяю со всей возможной убедительностью, — буквально прорычал Гяур, демонстрируя всю мыслимую в подобной ситуации правдоподобность.
С минуту Власта лежала, затаившись, словно дикая кошка перед броском на свою жертву. В эти мгновения она была по-охотничьи смирна и терпелива. Но только в эти.
— А ведь ты даже не догадывался, что именно это утро подарит нам зачатие сына.
— Хотелось бы верить в это твое пророчество, — мечтательно произнес генерал. — Как ни в какое другое.
— Вот и начинай верить. Причем начни с того, что запомни это утро.
— Судьба подарит нам много сыновей, — легкомысленно согласился Гяур, чувствуя, как ноги женщины блуждают по его ногам и как Власта покрывает шелковистыми волосами его торс.
— Э, нет, на многих не рассчитывай, — озабоченно усмирила его фантазию графиня. — Хватит с тебя одного.
— Правда?
— Зато это будет сын, достойный славы и величия княжеского рода Одаров, особенно своего отца Одар-Гяура. И конечно же он станет бесстрашным воином, настолько известным, что славой своей, возможно, превзойдет своего родителя.
— Я не завистливый, это ему простится, — блаженно улыбался генерал, который чуть было не стал национальным героем Франции.
Он слушал Власту, как слушают сказку или романтический бред влюбленной девушки, при этом не мог и не хотел прерывать его. После многих лет кровавых сражений, походов, плена, Гяур наконец начал ощущать давно забытую умиротворенность, в сладостном потоке которой он очищался от жестокости и ненависти; учился жить, не осознавая постоянной опасности и не порождая такую же опасность для других. Он учился обретать то ощущение, которое называется «ощущением дома», ощущением семьи.
— А ты действительно уверена, что это будет сын? — вдруг всполошился Гяур, неожиданно ощутив острую необходимость увидеть перед собой наследника, осознать его появление. — Так желаешь ты или так желают Высшие Силы?
— Так желаем мы с тобой.
Гяур сумел вырваться из полусна и провел рукой по волосам женщины, столь уверенно обещавшей ему сына. Была ли в его жизни женщина, которая обещала бы ему… сына? Не было. Его фантазия вдруг возродила прекрасный облик графини де Ляфер, однако Гяур сразу же попытался развеять его, побаиваясь, как бы Власта не сумела провидчески «подсмотреть». С именем Дианы, с обликом этой прекрасной женщины, он мог связывать многое в своих сугубо мужских мечтаниях кроме мечтаний о семье, доме, наследнике. Впрочем, француженка и сама прекрасно понимала это, не зря же так настойчиво подталкивала его к сближению с Властой. Да, продолжала увлекаться им; да, как всякая самка, она жаждала обладать этим молодым, сильным и достаточно красивым самцом, однако не позволяла ему строить каких-либо иллюзий относительно сотворения надежной патриархальной семьи.
Наверное, Власта ощутила, что в эти минуты рядом с ней в постели оказалась соперница, причем ей не нужно было ломать голову над тем, кто именно способен был пленить фантазии ее будущего мужа. Однако графине Ольбрыхской было сейчас не до ревности. Что будет завтра, то будет только завтра, а пока что этот вожделенный мужчина находится в ее объятиях. И в этом — ее главное преимущество над всеми теми женщинами, с которыми князь уже оказывался в постели или окажется в ближайшем будущем.
Все еще не открывая глаз, Гяур ощутил, как Власта напористо оседлала его и как тела их сливаются, подчиняясь единой страсти, единому порыву, единому ритму движений. Чувство, которое охватило его в эти минуты, стоило того, чтобы пожертвовать ради него всеми сражениями и всеми авантюрами; оно символизировало то величие жизни, которое заставляет ценить эту самую жизнь так, как не способен ценить ее ни один воин мира.
— Разве после всего этого ты способен усомниться, что у нас родится сын? — едва слышно прошептала ему на ушко Власта, когда страсти немного поугасли и она снова улеглась рядом с ним, ласковая и притворно присмиревшая.
— Теперь уже — нет, — решительно покачал головой Гяур. — Да и как можно? Это же так очевидно!
— А вот меня почему-то охватывают сомнения, — спустя несколько минут хитровато ухмыльнулась женщина.
— Какие еще сомнения? По поводу чего? — сонно проворковал мужчина, вновь ощущая, что ноги женщины начинают требовательно сплетаться с его ногами.
— Все ли мы делали так, чтобы у нас появился ребенок, да к тому же — сын?
— До чего же ты коварная, — молвил Гяур, осознавая, что постепенно к нему возвращаются мужская сила и страсть.
— До чего же я влюбленная!.. — по-кошачьи изогнув спинку, промурлыкала Власта, точно улавливая возбуждение мужчины и не позволяя ему угаснуть. — В своей жизни ты сумел усладиться многими женщинами, но ни одну из них ты не сумел влюбить в себя так, как меня.
— Просто ни одна из них не сумела так убедить меня, что является его судьбой, как умудрилась сделать это ты.
— Чему-то же я должна была научиться у несравненной в своем провидчестве графини Ольгицы. Иначе стала бы она считать меня своей наследницей!..
— Не сомневаюсь, что в коварстве своем ты превзойдешь не только Ольгицу, но и всех прочих колдуний и провидиц.
26
Вуйцеховский встретил гетмана у своей кареты. Коронный Карлик прохаживался под ее королевским гербом резким пружинистым шагом, как важный чиновник, который очень торопится, однако снисходительно нашел несколько минут, чтобы выслушать случайного просителя.
— Какая сила, какая нужда заставила столь осторожного, предусмотрительного человека, как вы, так далеко забраться в глубины Дикого поля? — спросил Хмельницкий, сходя с коня и приветствуя Вуйцеховского едва заметным склонением головы.
— Теперь и сам пытаюсь понять, какая сила привела меня в эти степи. Не исключаю, что простое любопытство. Вначале я посетил ставку коронного гетмана графа Потоцкого, теперь вот решил навестить вас, пока вы все еще считаете себя подданным польского короля. Вас не оскорбляет, что вначале я все же побывал в ставке господина Потоцкого?
— Куда больше меня удивляет, что вы осмелились посетить меня. Не так много сейчас находится шляхтичей, решающихся на подобный вояж по диким степям. Тем более сейчас, когда в этих степях разгорается костер восстания. Это делает вам честь, господин Вуйцеховский.
— После того, как вы неожиданно напали на лодки, идущие по Днепру с оружием и продовольствием для заставы реестровиков, а затем захватили саму заставу, разгромив отряд полковника Гурского… желающих посетить эти края действительно осталось немного, — продемонстрировал Коронный Карлик знание ситуации, в которой оказался теперь генеральный писарь реестрового казачества. — Я в этом убедился, осмотрев заполненные воинством окрестности ставки коронного гетмана. Кстати, вы знаете, что под своими знаменами Потоцкий уже собрал довольно большое войско?
— Я не спрашиваю вас о его численности, чтобы не чувствовали себя предателем, выдающим бунтовщикам секреты армии.
— Мне тоже кажется, что ваши лазутчики способны назвать более точное количество польских ополченцев, — вежливо улыбнулся Вуйцеховский.
Над хутором разгулялась пыльная буря. Мощные порывы ветра срывали целые пласты оголившейся земли, превращали ее в пепельную пыль и едким слоем покрывали стены хуторских мазанок и бычьи пузыри, которыми были закрыты окна; приводили в бешенство лошадей, предупреждавших своим тревожным ржанием о приближении страшной стихии, которая не должна была заставать их всадников в открытой степи. Спасаясь от нее, Коронный Карлик и гетман вошли в ближайшую хату-мазанку, хозяева которой, чета стариков, сразу же отправилась к соседям, чтобы оставить этих шляхтичей вдвоем.
— Так что же все-таки вас привело сюда, господин Вуйцеховский?
— Как я уже дал понять, любопытство. Я, знаете ли, принадлежу к людям, которые всю жизнь движимы неистребимым любопытством. Если только вы соизволите простить мне эту слабость.
Хмельницкий промолчал. Начало ему явно не понравилось. Он не привык к такой манере беседы, при которой человек, просивший его о встрече, позволяет себе начинать ее с банальной зауми.
— И толькое мое фатальное любопытство заставляет задать вам, господин полковник — для меня вы все еще полковник, поскольку я не могу признать…
— Остановимся на том, что для вас я все еще полковник, — прервал его объяснение Хмельницкий. — Задавайте свой вопрос. К ночи я намерен вернуться в казачий стан.
— Это очень простой, до смешного простой, почти наивный вопрос: вы все еще остаетесь подданным польского короля? Смысл вашего ответа должен заключаться в его исключительной искренности и лаконичности — считаете ли вы себя подданным или нет?
— Вы не уточнили, что это еще и вопрос философский. Почему он так интересует вас?
— Проще было бы спросить, почему вдруг я усомнился в этом.
— Тогда поставим вопрос так: вас прислал сюда коронный гетман Потоцкий? Для ведения переговоров со мной?
— Возможно, Потоцкий узнает о том, что я встречался с Хмельницким. Но уж точно не от меня. — Вуйцеховский уселся за стол, подождал, когда по ту сторону его усядется генеральный писарь, и только тогда продолжил: — Не надо считать себя настолько важной персоной, полковник, что тайный советник короля вынужден оставлять Варшаву и бросаться в дикие степи, чтобы выяснить степень вашей лояльности Его Величеству. Понимаю, совсем недавно несколько сотен казаков швыряли вверх шапки и кричали: «Желаем видеть во главе запорожского казачества славного рыцаря Хмельницкого!». Но стоит ли умиляться этим? Точно также завтра они будут кричать: «Предателя Хмельницкого — на кол! В Днепр его! Отобрать у него булаву!». И будут правы, поскольку получат такие веские доказательства, что ни у кого не останется сомнений: никакой Хмельницкий не руководитель восстания! На самом деле, он всего лишь эмиссар короля. Провокатор, который специально провоцирует крестьян на бунт, чтобы дать возможность Потоцкому пройтись по Украине огнем и мечом, выжигая смуту на двадцать лет вперед. Вам еще объяснять, чем может закончиться бросание шапок на том лугу, на котором вам, по недосмотру сечевых старшин, всучили в руки булаву?
Сжав зубы, Хмельницкий прорычал что-то очень грозное и почти несбыточное и, с усилием подняв вверх кулаки, так грохнул ими по столу, что, казалось, потрескавшиеся доски его тут же россыпятся.
Несколько минут Коронный Карлик наблюдал, как гетман тщетно пытается погасить в себе конвульсии той мысленной истерики, что пронизывала сейчас не только мозг, но и все его естество. Он то хватался за саблю, то, выйдя из-за стола, метался из угла в угол, то вновь бил кулаком по столу, с ненавистью глядя на тайного советника.
Все это время Коронный Карлик, скрестив руки на рукоятках двух пистолетов, висевших в кобурах у него на поясе, стоически следил за каждым его движением, все больше убеждаясь, что в выборе своем король явно ошибся. Импульсивная ярость, непомерное самолюбие и непостоянство этого человека не только приведут его к предательству, но и сослужат очень плохую службу всем им: королю, канцлеру, самому Хмельницкому, Польше, Украине… Коронный Карлик так напрямую и сказал об этом:
— Как бы вы ни вели себя дальше, господин генеральный писарь, больше разочаровать меня в выборе короля, чем вы сделали это сейчас, уже не сможете.
Хмельницкий остановился у дальнего угла настолько резко, словно наткнулся на острие копья. Медленно, сгорая от ненависти, он повернулся лицом к Вуйцеховскому. В какое-то мгновение королевскому комиссару показалось, что Хмельницкий выхватит свою саблю и бросится на него. И даже был слегка разочарован, что этого не произошло. И вообще то, что произнес в эту минуту гетман, показалось Коронному Карлику совершенно невероятным. Он даже не сразу сумел поверить, что слышит эти слова.
— Я еще не давал королю повода не верить мне, — уперся он дрожащими руками о стол. — Все наши договоренности с Владиславом остаются в силе. В столице, особенно при дворе, должны помнить: Хмельницкий от своих слов не отрекается. И ваше, господин Вуйцеховский, мнение по этому поводу меня совершенно не интересует. Но я хочу, требую, чтобы король услышал из ваших уст то же, что вы услышите сейчас от меня: на полковника реестрового войска Хмельницкого и его казаков король может положиться полностью. Все, что я делаю сейчас, предпринято мной, исходя из того, что впредь нам придется вместе воевать против могущественной армии султана. Однако прежде чем пойти походом против него, я собью спесь и гонор с Потоцкого, а заодно и с других лютых врагов государя, таких, как князь Иеремия Вишневецкий, Мартин Калиновский, а также любомирские, конецпольские и прочие… Но сделаю это, потому что знаю: сам король сделать этого без меня не в состоянии. Нет у него ни авторитета, ни силы. Если же начнем нашу священную войну, имея у себя за спиной такую мощную свору ненавистников короля, какую имеем сейчас, сейм вновь предаст и вновь ударит нам в спину. Прежде всего тем, что снова запретит собирать ополчение и даже заставит распустить армию, что он, собственно, уже сделал. Это вы способны понять, тайный советник короля Владислава?
— Почему вы считаете, что я не способен понять то, что мне говорят предельно ясно и честно? Я всегда задаю только простые вопросы. И рад, когда и мне отвечают просто. В Варшаве каждый знает, что я никогда не усложняю свои вопросы. Они просты, как доски на этом столе, — столь же спокойно и примирительно заверил его Вуйцеховский. — В конце концов мы с вами дворяне. И если уж вы решаетесь говорить со мной столь откровенно, то лишь потому, что знаете: король доверяет мне больше, чем вам или самому себе.
— Для начала, мне следовало бы убедиться, что вы присланы именно королем.
— Ах, вот в чем дело! — рассмеялся Вуйцеховский. — Совершенно забыл. Что же вы не напомнили? У меня есть письмо короля, переданное вам вместе с довольно большой суммой денег [14].
— Он прислал деньги?! — почти торжествующе улыбнулся Хмельницкий, и Коронному Карлику вдруг показалось, что это улыбка мошенника, которому удалось обмануть и короля, и всю королевскую казну. — Я помню его обещание, но…
— Это было обещание короля, — сурово перебил его Вуйцеховский. — Иное дело, что теперь зависит от меня: вручать вам эти деньги или же увезти их в Варшаву, чтобы они пошли на содержание войска, которое к лету должно громить вас у каждого из днепровских порогов. Начиная от стен благословенного Кодака.
Наступило то неловкое молчание, которое в любой серьезной беседе отделяет ссору от примирения. Словно бы воспользовавшись этой паузой, в доме появились двое слуг с кувшином вина и шампурами, на которых были нанизаны куски только что поджаренной в соседнем доме говядины.
— И что же вы решили? — спросил Хмельницкий, когда они наполнили серебряные кубки вином и пригубили их. Он понимал, что обязан задать этот вопрос. Уже хотя бы из уважения к собеседнику, которого попросту… вынужден уважать.
— Я решил укрепить волю короля в его намерении через какое-то время вручить вам еще одну сумму денег, достаточную для поддержания вашего войска в состоянии готовности к походу. Почему вы так удивлены? Вы конечно же считали, что я не верю в вашу способность создать мощное, надежное войско?
Хмельницкий рассмеялся. Манера вести диалог, как и сама логика этого коротышки, представлялась ему убийственной. Только сейчас командующий понял, что Коронный Карлик ведет себя так, как, еще будучи королевским следователем по особым государственным делам, привык вести себя на допросах, во время которых умение поставить допрашиваемого в идиотское положение, загнать его в тупик, утопить в трясине словесных хитросплетений — почиталось им выше иного дара Господнего.
— Меня вдохновляет ваше стремление укрепить короля в его намерении. Теперь я уверен, что получил в вашем лице надежного союзника, к помощи и советам которого позволю себе прибегать всякий раз, когда нужно будет вести переговоры с королем, противостоять сейму или же помогать королю в свершении важных государственных дел.
— И в этом не будет ничего странного. Вы правы, я всего лишь никому не известный, никем в Варшаве не узнаваемый тайный советник. Причем советник не только короля, но и канцлера, что случается крайне редко. Ну и что? Назовите мне такого дворянина в пределах Речи Посполитой, которому не хотелось бы самому давать советы самому государю и его канцлеру. Однако наиболее мудрые из них, прежде чем нести свою голову на высокую аудиенцию, сначала заносят ее ко мне. Чтобы посоветоваться, что именно говорить королю; на что жаловаться и что советовать…
— Теперь я буду знать, что не следует бездумно носиться со своей головой в руках по приемным столицы. Постараюсь вовремя вспоминать, что для этого существуют другие, более умудренные головы.
Они выпили за здоровье короля, за погибель врагов, за великую Польшу от моря до моря.
* * *
Коронный Карлик кликнул своего слугу, и через несколько минут тот вновь появился, в этот раз — с двумя увесистыми мешочками злотых.
— Письмо вы найдете в одном из них, — объяснил он Хмельницкому, отпуская слугу. — Каким образом мне удалось провезти это богатство через всю Польшу и все польско-казачьи заставы на Украине, рассказывать не стану. Причем мое немногословие обойдется вам всего лишь в триста злотых. Дорога, знаете ли, и при всей мыслимой щедрости нашей казны…
Свое собственное молчание Хмельницкий тотчас же оценил не ниже, чем Коронный Карлик. Извлек откуда-то из тайников одежд кошелек и, зная, что там значительно больше, чем запросил тайный советник, положил его перед Вуйцеховским.
— Понимаю, вам здесь, в степи, торопиться некуда. Поэтому разговор наш может затянуться. А сказать мне сталось всего два слова.
— Для настоящего дипломата важно не то, с какой фразы он начинает свои переговоры, а какими завершает, — молвил гетман.
— Никакие суммы злотых, полученные или не полученные нами от короля, не могут заставить разувериться в нашей верности короне. Но было бы совершенно несправедливо, если бы сейчас, славя Его Величество, мы с вами упустили один существенный момент: денег у короля нет и, по существу, никогда не было. Казна не выделила ему для ваших опечатанных королевскими сургучами мешочков ни гроша. Все, что вы получили, пожертвовано королевой из ее приданого. Вам случалось слышать когда-нибудь, чтобы армию повстанцев, бунтарей, врагов короны вооружала королева? Жертвуя при этом своим приданым.
— Даже если бы я знал сотни подобных случаев, все равно счел бы жертвенность Марии-Людовики Гонзаги беспримерной. Говорю это искренне. К черту в таких случаях какую-либо дипломатию.
— Прекрасный тост, — поддержал его Вуйцеховский, наполняя бокалы привезенным с собой венгерским вином. — Королева желает, чтобы вы помнили: она не тщеславна. То есть она не требует, чтобы вы восхваляли ее щедрость перед кем бы то ни было, пусть даже перед самим королем. Но когда встанет вопрос о том, кому сменить на троне увядшего короля Владислава… — Коронный Карлик прервал свою речь на полуслове, выпил и, выдержав паузу, вполне достойную целомудрия венгерских вин, продолжил: — Когда такой вопрос все же встанет… королева хотела бы оставаться уверенной, что на юге королевства у нее есть воинская сила, способная внушить к интересам вдовствующей королевы достойное их уважение. Кроме того, она уверена, что делегация, которую гетман Украины направит на элекционный сейм, на котором будут избирать нового короля… — Вуйцеховский выдержал длительную паузу, достаточную для того, чтобы Хмельницкий имел возможность осмыслить важность этой информации. — Так вот, важно, чтобы эта делегация проголосовала за того претендента, которого она будет видеть и в качестве короля, и в качестве своего мужа. Имя вам будет названо сразу же после смерти Владислава. Считаете, что королева неправа? Что она требует слишком многого?
— Нет, я так не считаю. Королева подозревает, что очень скоро ей придется овдоветь?
— В этом ее убеждают врачи и само состояние здоровья короля. Сообщая вам это, я понимаю, что с новым королем осуществлять тот план, который был намечен с Владиславом, будет непросто. Что тоже должно сближать вас с королевой и ее новым избранником.
— Хорошо, что вы предупредили меня, господин тайный советник. Известие о здоровье короля многое проясняет в той миссии, с которой вы прибыли в Дикое поле.
Вуйцеховский вежливо склонил голову. Он остался доволен, причем не столько убедительностью своей речи, сколько реакцией вождя восставших казаков. Во всяком случае, теперь он понимал, что переговоры оказались ненапрасными.
— И все же мы с вами слишком неопытные дипломаты, господин командующий… королевской армией, — решительно поднялся он из-за стола. — Поскольку не с того мы начали нашу встречу. Совершенно «не с того».
— Объяснитесь, господин Вуйцеховский, — застыл с поднесенным ко рту кубком гетман.
— Вот если бы мы догадались начать встречу с заверения в том, что, при любых обстоятельствах, интересы королевы будут достойно защищены оружием ваших воинов… — мечтательно протянул Коронный Карлик и словно бы на какое-то время забылся.
— И что тогда?
— Тогда зачем бы нам понадобилось тратить за столом столько слов, не имеющих никакого отношения ни к тостам, ни к восхвалению этого поистине королевского напитка? — похлопал Коронный Карлик рукой по стоявшему на столе кувшину.
— Вы правы, господин королевский комиссар, начали мы явно «не с того…».
— Вот на этом признании и позвольте откланяться.
27
— Эй, служивый, это имение князя Гяура?! — послышалось из-под окна как раз в ту минуту, когда ритм и страсть двух сластолюбцев вновь достигли своей яростной вершины.
— Ну, здесь, суд господний! — ответил недовольный голос Улича. — Кто ты такой и почему в такую рань?!
— Лучше скажи, где сам господин генерал?!
— А тебе какое дело, где он?!
— Велено передать ему письменный приказ. Я гонец от воеводы!
— Все приказы, которые передают генералу короли и воеводы, принимаю я, мощи святой Варвары! Так было и так будет.
Однако властный тон Улича не смутил гонца, скорее наоборот, придал ему настойчивости.
— Возможно, у вас так и заведено. Да только этот приказ мне велено передать ему лично в руки.
— Странно, что кто-то еще осмеливается приказывать князю Гяуру? — пожал плечами адъютант и телохранитель. — Это ж кто может позволить себе такое?
— Такой ответ мне не понятен, — еще решительнее молвил польский офицер, упрямо покачав головой. — Если князь служит королю Речи Посполитой, то он служит… этому королю, а не кому-то там еще. На словах могу сказать, что сегодня же господин генерал должен отправиться в Каменец, в свой полк, чтобы выступить против армии повстанцев. Только это, и ничего больше. Остальное он найдет в письме.
— Генерал не воюет с повстанцами, — услышал Гяур сквозь пелену любовного тумана, постепенно развевающегося после того, как Власта затихла у него на груди. — И в свой полк отправится, когда сочтет необходимым.
— В последний раз напоминаю, что князь служит польской короне.
— Так считают в Варшаве, мощи святой Варвары, а не здесь, в имении князя Гяура. Вам известно, что генерал только что вернулся из Франции, где воевал на стороне короля Людовика?
Гонец в замешательстве помолчал, а затем наивно поинтересовался:
— Так что, получается, что теперь он подданный Франции и служит французскому королю?
— К устремлениям французского короля он так же безразличен, как и к устремлениям короля польского. Он — князь Острова Русов, наследник его великокняжеской короны. Поэтому служит он Острову Русов. Везде и всегда — только Острову Русов, великим князем которого вскоре будет провозглашен.
— Представления не имею, о каком таком острове вы говорите, полковник. Зато мне хорошо известно, что, несмотря ни на что, он все еще служит польской короне, а значит, обязан подчиняться польскому командованию. Все остальное — от лукавого.
— Лучше скажи, чью волю ты выполняешь?
— Только что я передал приказ коронного гетмана, его светлости графа Потоцкого.
— Какого еще «коронного гетмана»? Он кто, этот гетман — ваш генерал или первый министр?
— Командующий всеми войсками Речи Посполитой.
— Ах, он командующий всеми войсками… — недовольно проворчал Улич. — Ладно, я извещу генерала Гяура.
— Но мне нужно лично увидеться с ним.
— Убирайся отсюда, пока жив, иначе уползешь без коня и с перебитыми ногами!
— Может, ты все-таки примешь этого гонца? — спросила Власта, наблюдая за тем, как поспешно Гяур облачается в свои одеяния. — Усмири наконец Улича.
— Вряд ли гонец сумеет сказать больше того, что уже высказал, — проворчал князь.
— И все же на твоем месте я бы пригласила его в дом и выслушала.
— Ты что, не знаешь, как князь Гяур встречает каждого, кто пытается приказывать ему?!
Гяур благодушно рассмеялся. В эти минуты Улич явно подражал Хозару, который, очевидно, отсыпался после ночного дежурства. Тот как раз любил создавать ему славу некоего человеконенавистнического чудовища, которому лучше не попадаться на глаза.
— Вот письменный приказ для генерала. Кто принял?
— Полковник Улич.
Еще какое-то время Гяур и Власта прислушивались к тому, что происходит у дома, затем, поняв, что гонец умчался прочь, вновь бросились в объятия друг другу.
— Это прощание, Гяур. Опять прощание, — прошептала Власта, со сладострастным страхом ощущая, как он подминает ее под свое могучее тело и заковывает в цепи мышц.
— Да, это прощание. Я обязан буду подчиниться приказу.
— А значит, сын, как и дочь, вновь родится без тебя…
Гяур запнулся на полуслове, поскольку о сыне слышал впервые, однако уточнять это, как и все прочие предсказания, не стал, понимая всю бессмысленность подобного занятия.
— Такова судьба всех сыновей, чьи отцы стали воинами.
— Ты прав. Но я не желаю, чтобы ты сражался против повстанцев. Ведь казаки — это украинцы, а значит, твои соплеменники, одного корня с твоими дунайскими русичами.
— Не ожидал, что задумаешься об этом, — как-то сразу замялся генерал. — Что поймешь, как мне не хочется проливать кровь казаков.
— У меня это получилось как-то само собой. Просто вырвалось, словно бы кто-то нашептал.
— Опять Ольгица постаралась?
— Разве что голосом Учителя. Ты обвенчаешься со мной сегодня же? — прошептала она, едва не задохнувшись от его затяжного поцелуя.
— Не помню, чтобы мы говорили о венчании, — нахмурил он лоб.
— Всю ночь ты только об этом и говорил. Мне казалось, что не дождешься утра и придется привозить ксендза прямо сюда, в спальню, — шутливо заверила его Власта.
— Но ты ведь понимаешь, что…
— …Что ты будешь очень плохим семьянином. Ты уже говорил об этом. Я всего лишь пытаюсь выяснить: ты решишься обвенчаться со мной прямо сегодня или же вновь станешь испытывать судьбу, пытаясь забыть меня в объятиях других женщин? Многих-многих других…
— О, нет, на сей раз испытывать не стану, коль уж мне пообещали сына.
28
Утром Хмельницкий решил объехать лагерь восставших. Его готовили всю ночь, сковывая цепями повозки, насыпая валы и обводя это пристанище довольно широким рвом. Некоторые казачьи командиры были против возведения этого военного стана. Им казалось, что для действий народной повстанческой армии тактика укрепленных лагерей вообще неприемлема. Следовало как можно скорее разбиться на небольшие отряды и уходить в глубь Украины, громя при этом польские имения и лишь время от времени совершая небольшие наскоки на армейские отряды. Настоящие сражения, дескать, последуют потом, когда окрепшие отряды начнут объединяться, а само восстание охватит всю Украину.
В очередной раз внимательно выслушав этих «повстанческих стратегов», Хмельницкий решил действовать по-своему.
— Отряды мы разослали, — уже заученно усмирял он слишком прытких и ретивых. — На землях наших уже создаются полки, которые будут поднимать восстания на местах, ожидая нашего приближения. Нам же, казачьей армии, самим Богом велено воевать с польской армией, а не с перепуганными лавочниками и управителями покинутых аристократами именийЭто было очень важно для него: с первых дней восстания погасить в себе и в своих полковниках лихой повстанческий дух, вытравить повстанческую стихию. Поляки, татары, вся Европа должны увидеть под его командованием дисциплинированную, готовую к длительной войне украинскую армию, четко поделенную на полки и виды войск, с опытным офицерским корпусом, а главное, готовую воссоздать на территориях Киевской Руси новое государство.
— Слава тебе, гетман! — появился у ворот лагеря полковник Иван Ганжа, один из той казачьей гвардии, из которой Хмельницкий старался составить костяк каждого повстанческого полка [15]. — Только что вернулись из разведки мои хлопцы. Оказывается, поляки потому и храбрятся, что на помощь им движутся около двух тысяч реестровых казаков.
— Казаков?! — насторожился Хмельницкий. — Где они сейчас и кто их ведет?
— Плывут на челнах. Ночь провели неподалеку от хутора Корневого. Теперь направляются к Каменному Затону. Ведут их гетман Барабаш и полковник Кричевский.
— Неужели Кричевский с ними?! — разочарованно спросил Кривонос, многозначительно глядя на Хмельницкого. Он помнил, что именно этот полковник спас их гетмана от верной гибели, освободив его из-под стражи незадолго до казни. — Не верится мне, что этот полковник пойдет против своих же братьев-казаков.
— Не забывайте, однако, что там находится Барабаш и верные ему старшины, — мрачно напомнил Хмельницкий. — Но ты прав, полковник, с Кричевским можно договориться. Нужно взять отряд и двинуться навстречу реестровикам, пока они не воссоединились с поляками, засевшими в Княжьих Байраках [16].
— Обязательно перехватить, — согласился Ганжа. — Потом будет слишком поздно. Казак на казака, что брат на брата… Между своими вражду раздувать не позволим.
— Ты, Кривонос, останешься старшим в лагере. Ты, Ганжа, немедленно подбирай три сотни. Через час выступаем.
— Слава гетману! — отсалютовал саблей Ганжа, зарождая ритуал армейского приветствия.
Еще несколько минут Хмельницкий внимательно осматривал свой первый боевой лагерь. Он показался ему настолько удачным, что гетман подумал: не возвести ли его еще более мощным, как полевую крепость, которая будет служить и основным лагерем для военной подготовки необученных повстанцев, и тыловой базой на случай неудачи.
А место и в самом деле попалось чудное: с одной стороны лагерь проходил по крутым берегам речки Желтая Вода, довольно глубокой в этих местах для того, чтобы затруднить любую переправу; с другой — к нему подступала широкая болотистая балка, превратившаяся в эти весенние дни в приток реки. Между ней и речкой пролегал лес, за дремучесть и непроходимость свою прозванный Черным.
Избрав эту местность для укрепленного лагеря, гетман почти полностью обезопасил себя от закованной в латы тяжелой польской конницы, ядро которой нередко составляли германские наемники-кирасиры. К тому же весь фронт возможной атаки суживался в этом лагере до какой-нибудь сотни метров, прегражденных рвом, валом, стеной из повозок и двумя внушительными лесными завалами.
— Гетман, — восстал на холме неподалеку от ворот сотник Савур. — Вновь появились польские лазутчики! Вон там, на возвышенности.
— Не трогать их. Подпустить поближе, пусть увидят!
— Но зачем? Ведь выведают же все, что захотят.
— Ничего, пусть грозный вид нашего лагеря успокоит их командиров. Если казаки старательно окапываются валами, значит, наступать не собираются.
— Понял, гетман! Мудро!
Хмельницкий залюбовался этим застывшим на вершине холма могучим всадником словно бронзовой конной статуей. Когда-нибудь она, возможно, и появится в этих местах. На этом же холме. Только устанавливать ее будут потомки.
— Погоди, сотник! — остановил он Савура. — Возьми свою сотню. Почему бы и нам тоже не взглянуть на лагерь поляков?
— Да там и смотреть-то не на что: не лагерь, а лошадиная ярмарка. Ленятся польские жолнеры, ленятся. А офицеры пьянствуют по шатрам да отсыпаются по каретам.
— Видно, и впрямь ждут прихода реестровиков, — обронил Хмельницкий, глядя, как Ганжа сосредоточивает своих казаков у лесной тропы, намереваясь вывести их так, чтобы уход не был замечен в польском лагере.
Савур оказался прав. Убедившись, что казаки основательно укрепляют свой лагерь, а также видя, что место для собственного лагеря Хмельницкий оставил им очень неудачное — в сыроватой, поросшей высокой травой низине, на краю лесного урочища, польские офицеры решили не утруждать себя сооружением мощных валов, как, впрочем, и подготовкой к штурму. Безмятежно ожидая плывущих по Днепру казаков-пехотинцев, они тешили себя предвкушением редкого зрелища: реестровые казаки штурмуют валы запорожских казаков и повстанцев! Эти хитрецы прекрасно помнили завет предков: «Когда украинцы в очередной раз начинают истреблять украинцев, поляки могут чувствовать себя спокойно».
Догадавшись, что на смотрины их лагеря прибыл вождь повстанцев, два эскадрона польских гусар ринулись к возвышенности, пытаясь охватить ее с двух сторон раньше, чем гетман со свитой сумеет вырваться из этих клещей. Но опытные в таких делах казаки образовали два кавалерийских «водоворота», которые, непрерывно раскручиваясь и осаждая гусар пистолетным и ружейным огнем, не только дали Хмельницкому возможность уйти от преследователей, но еще и выбили из седел не менее двух десятков поляков.
— Слушай меня внимательно, полковник, — обратился Хмельницкий к Кривоносу, как только вернулся в лагерь. — Пока что ляхи топчутся у края лесного урочища Княжьи Байраки. Зачем оно им понадобилось, неведомо даже Господу. Но это их дело. Как только стемнеет, пошли туда две сотни казаков-пластунов. Пусть роют и маскируют в лесу ямы-ловушки и таятся возле них до той поры, когда мы начнем теснить ляхов к урочищу. А местных лесов они боятся, как черт ладана.
— Я пошлю три сотни. И передам татарам, пусть обойдут урочище и там разобьют свой лагерь, чтобы в нужный момент могли ударить по полякам с тыла, со стороны Черкасс.
— Татары должны уходить так, словно они вообще оставляют нас, — подхватил его идею Хмельницкий. — Это придаст полякам наглости. Особенно в надежде на подкрепление из реестровиков.
— Можешь не сомневаться. Тугай-бей будет уходить от нас так, словно уходит вместе со своим войском в небытие, — пообещал Кривонос.
И Хмельницкий впервые ощутил, что рядом с этим полковником чувствует себя увереннее. Это слегка задело его самолюбие, но в то же время укрепило в уверенности, что по крайней мере одного опытного, хладнокровного полководца-стратега он уже приобрел. Полковник Кричевский должен стать вторым, нельзя оставлять его во вражеском лагере, он достоин совершенно иной славы. Есть еще Ганжа. Остальные полковники будут рождаться в тяжких походах и кровавых битвах, как и надлежит рождаться настоящим полководцам.
29
Гяур обессилено лег рядом с Властой и, положив голову ей на грудь, замер, прислушиваясь к учащенному биению сердца.
— Вот теперь чувствую, что смирился, — неожиданно молвила Власта, улыбнувшись.
— И впрямь, смирился, — покорно признал он.
— Так бы давно, а то все упрямишься и упрямишься. Помнишь нашу первую встречу, наше знакомство?
— Как же такое можно забыть? Когда с первой встречи незнакомая красавица начинает яростно доказывать, что именно она и есть твоя судьба, — такое не забывается.
— Лучше признайся, что если бы не я, так и блуждал бы по миру, не зная, кто же она на самом деле, эта твоя судьба. Так что будь благодарен моей настойчивости.
— Это все Ольгица наколдовала… — вздохнул князь.
— Ты прав, я здесь ни при чем, — кокетливо согласилась Власта. — Во всем будем винить только Ольгицу. Слушая нас, она, наверное, мудро усмехается, любуясь нашими шалостями. Хотя о шалостях этой ночи ей лучше бы не знать.
— Надеюсь, она простит их.
— Исключительно по мудрости своей. Кажется, ты хотел спросить, есть ли в нашей деревне ксендз, разве не так?
— Просто мне еще не успело прийти такое в голову. Но можешь считать, что прочитала мои мысли.
— Теперь мне приходится вычитывать не только то, что ты подумал, но и то, о чем думать не торопишься, — проворчала Власта. — Подвенечное платье мне пошили еще прошлой весной. Нет-нет, на всякий случай, — заверила она. — Не думай, что я так уж рассчитывала затянуть тебя под венец.
Гяур беспечно рассмеялся. Эта женщина нравилась ему все больше и больше, но уже не как любовница, а как тактичная и требовательная жена.
— Впервые слышу, как ты оправдываешься. До сих пор оправдываться приходилось только мне. Но зря стараешься.
— Так уж и зря? — озорно усомнилась Власта.
— Ты ведь уже успела убедить, что являешься моей судьбой. Все остальное оправдательным извинениям не подлежит, графиня Ольбрыхская.
— Кстати, каковой будет моя фамилия, когда ксендз обвенчает нас, князь Гяур?
— Очевидно, ты станешь княгиней Одар.
— Я бы предпочитала оставаться княгиней Ольбрыхской. Все-таки известный род, к тому же, приняв фамилию Одар, я потеряю аристократическое окончание [17] своей прежней фамилии. Однако ради тебя соглашусь. Поднимайтесь, князь Одар. Пока вы надраите клинок своей сабли, я прикажу привести сюда ксендза. Прямо из дому. Не так часто в этой деревеньке венчаются князь и графиня. Отсюда мы все вместе отправимся в костел.
— Но я не католик, — вдруг вспомнил Гяур.
— А я не православная.
— Тебе и не нужно быть православной, поскольку, как и все мои предки, я все еще остаюсь язычником. Правда, официально наше племя приняло христианство, однако вера наша — некая смесь христианства с язычничеством. Во всяком случае, у нас до сих пор существуют волхвы, мы поклоняемся Перуну, Велесу…
Власта на несколько мгновений замялась, понимая, что ситуация и в самом деле необычная, но затем решительно взглянула на князя.
— И все же мы должны венчаться, если только хотим предстать перед односельчанами, церковью и всем прочим миром в ипостасях супругов. Что же касается веры, то убеждена, что ксендз умудрится как-нибудь примирить нас перед Господом, который, по церковным понятиям, един для всех, а по нашим с Ольгицей — вполне заменяется Высшими Силами.
В тот же день графиня Власта Ольбрыхская и князь Одар-Гяур венчались. Проходило это действо в небольшом старинном костеле, с почерневшими серебряными «распятиями» и потускневшими безликими иконами. Каждый образ, каждый предмет в этом храме был настолько пронизан молитвами, что даже когда ксендз молчал, в сжатом, пропитанном духом ладана воздухе продолжали слышаться голоса давно почивших в бозе священников и певчих. Ксендз прекрасно знал, какого верования придерживается невеста, однако выяснять ее и жениха религиозные пристрастия не стал, разве что умудрился ввернуть в молитву слова об «искоренении из веры и душ человеческих язычества и прочей скверны». Однако вольность эту молодожены ему простили.
Они уже сидели за свадебным столом, когда прибыл хорунжий из ближайшего польского гарнизона и сообщил, что неподалеку, в украинских землях, появился первый отряд повстанцев. Командир эскадрона спрашивал, не согласится ли князь присоединиться со своими людьми и сельскими ополченцами к его драгунам, чтобы вместе выступить против бунтовщиков.
— Скажи своему поручику, что я мог бы взять его под свое начало, отправляясь в Дикое поле, — ответил Гяур. — Но ему лучше оставаться здесь, наводя страх на местных смутьянов. К тому же, будем надеяться, что украинцы из ближайшего воеводства повернут своих коней не на польские земли, а в казачьи степи.
На этом они с хорунжим и расстались. Но Гяур понял, что над имением Власты, а теперь уже и его имением, вновь нависла опасность. И не успели гости встать из-за стола, как он приказал слугам готовить карету и обоз, которые смогут доставить жену и дочь в родовой княжеский замок «Гяур».
— Ты не должна оставлять его стены до тех пор, пока не затихнет восстание, — приказал он Власте. — Я не желаю, чтобы эта война коснулась нашего имения, тебя и моей дочери.
— Тем не менее оно все равно коснется нас, — с грустью ответила молодая княгиня, выглядевшая божественно-прекрасной. — Единственное, что меня успокаивает, так это то, что на этой войне ты уцелеешь.
— Если только ты будешь очень хотеть этого.
— Ты уцелеешь не потому, что я так хочу, а потому, что так тебе предначертано.
— Уже молюсь на тебя, моя добрая предсказательница.
Только после этих слов Гяур снова оделся и позвал к себе Улича.
— Где письмо коронного гетмана, полковник?
— Письмо? — мрачно переспросил телохранитель, приставленный к нему еще на Острове Русов.
— Не заставляй меня повторять, — посуровел голос генерала.
— Значит, весь наш разговор с этим гонцом вы слышали…
— А ты что, намеревался скрыть от меня, что принял от гонца письмо?! — искренне ужаснулся князь.
30
— Поляки! — возвестил кто-то из повстанцев, и все бросились к своим коням, к повозкам, на которых лежали ружья и луки, к хуторским постройкам, из-за которых удобно было отстреливаться.
— Не опасайтесь! Мы послы коронного гетмана Потоцкого! — успел предупредить офицер, медленно приближавшийся во главе четверых драгун.
— Они что, сумели пройти к лагерю незамеченными? — помрачнел Хмельницкий, тоже успевший выбежать из штабного куреня и не так спешно, как хотелось бы в его годы, взобраться в седло. — Шкуры дозорных на полковые барабаны понатягивать надо за такую службу. Савур, узнай, чьи там дозоры их пропустили!
— Было бы велено, гетман. Но сначала узнаем, что за войско. Кто такие? — обратился он к польскому офицеру, подъезжая поближе и как бы прикрывая собой Хмельницкого.
— Ротмистр Радзиевский. Королевский драгун. С универсалом от гетмана Потоцкого.
— Послы, чьи бы они ни были, находятся под моей защитой. Пропустить! — приказал Хмельницкий казакам.
Розовощекий, пышущий редкостным для этих промозглых степей первородным здоровьем, Радзиевский подогнал коня прямо под порог штабного куреня и только тогда, немного поколебавшись, не уменьшится ли его гонора от того, что он оставит седло, лениво, неохотно спешился. Рослый, с широкой, прикрытой богатырским панцирем грудью, он как бы символизировал собой молодое польское дворянство — слишком воинственное и горделивое, чтобы признавать чью-либо власть, в том числе и королевскую. Увы, это дворянство и мысли не допускало, что своим вольнодумием как раз и губит ту Великую Польшу, которой якобы самозабвенно служит и на алтарь которой столь щедро кладет свои головы.
— Где вы раньше служили, ротмистр? — поинтересовался Хмельницкий, прежде чем усадить посла за стол. — Кажется, судьба уже когда-то сводила нас.
— В последнее время — в Каменце.
— Но с вами-то мы, кажется, встречались не в Каменце, а в Варшаве.
— Во дворце графини д'Оранж, благодаря которой я оказался в свите другой графини — француженки Дианы де Ляфер.
Как человек, уверенный в себе и ощущающий свою силу, ротмистр держался совершенно непринужденно, поминутно поводя плечами, да так, что наплечники его панциря ревматически потрескивали, а все, о чем бы он ни говорил, позволял себе излагать, развязно посмеиваясь.
«О таких говорят: “И сражаются храбро, и гибнут с улыбкой на устах”», — подумалось Хмельницкому.
Он слишком долго пробыл в реестре, на службе у польского короля, и слишком часто оказывался в одних боевых порядках с польскими гусарами, драгунами, пехотинцами, чтобы утратить ту святость военного побратимства, которая еще недавно роднила его со всем этим славянским воинством.
— Правильно, ротмистр, мы виделись во дворце графини д'Оранж, — мечтательно повертел головой полковник, садясь за стол напротив ротмистра и жестом останавливая Савура и Ганжу, решивших, что их присутствие придаст переговорам больше официальности и авторитетности. — Француженку вашу тоже помню. Что же вы не удержали ее, не женились?
— Если вы — о графине де Ляфер, то между нами встал князь Гяур.
— Серьезный соперник. Достойный.
— Вполне достойный того, чтобы вызвать его на дуэль. И если я не сделал этого, то лишь из уважения к его храбрости и к чувствам самой графини.
— …Которая и не скрывала своего выбора, — уточнил гетман. — С князем Одар-Гяуром мы довольно близко познакомились во время вояжа во Францию. Господи, да ведь и графиня де Ляфер там была. Они еще и свадьбу вроде бы затеяли.
— Хотите сказать, что князь Гяур женился на графине де Ляфер? — сникшим голосом поинтересовался Радзиевский, но тут же овладел собой и вполне искренне рассмеялся.
— Венчания, в общем-то, не состоялось. Но в авантюру помолвки они умудрились втянуть весь королевский двор, включая Анну Австрийскую и малолетнего Людовика XIV. Не говоря уже о принце де Конде, кардинале Мазарини и прочих великих людях Франции. Уверен, что и Владислава IV это тоже каким-то образом коснулось.
— Если уж графиня затевает какую-то авантюру, в нее обязательно будут втянуты как минимум три королевских двора, четыре армии и два рыцарских ордена, — вновь рассмеялся Радзиевский. Ему не о чем было жалеть в своем прошлом. Он вспоминал о нем легко и беззаботно, как человек, красиво поживший. И Хмельницкий понимал его. — Не знаете, где графиня сейчас? Все еще во Франции?
— Как и Гяур, — пожал плечами гетман.
— О, нет, Гяур уже давно в Польше.
— Неужели? — насторожился Хмельницкий. — Значит, скоро увижу его русичей на острие атаки вашей конницы?
— Пока не знаю. Известно только, что он все еще находится на территории исконной Польши. Войска, которые пребывают там, перебрасывать в Украину сейм пока не разрешает. Как и трогать Каменецкий гарнизон, в который входит давно осиротевший полк Гяура.
— Князь вернулся в него?
— Вряд ли. Думаю, что этим полком, под штандарт которого собраны рыцари чуть ли не всего мира, все еще командует один из норманнов, пришедших в Польшу вместе с Одаром. Но об этом лучше вам вспоминать в беседе с полковником Сирко.
Радзиевский демонстративно помолчал, выжидая, отзовется ли Хмельницкий на это имя. Потом, стараясь быть как можно деликатнее, поинтересовался.
— Если только это не тайна и вы согласны ответить на мой вопрос… Сирко уже в вашем войске?
— По-моему, он все еще во Франции. Вы хотите сказать, что уже видели его в Варшаве?
— В столице он пока не объявлялся. Но и во Франции война завершается.
— Чудесно. Когда полк его вернется в Речь Посполитую, получу хорошее «фламандское» пополнение.
Оба офицера сдержанно, дипломатично улыбнулись, одновременно решив для себя, что время, отведенное для воспоминаний, истекло и пора возвращаться к походной действительности.
— Ну, пока что трудно сказать, к кому именно пристанет это «фламандское» пополнение, уже познавшее лоск Европы, — все же молвил Радзиевский. — Но что Потоцкий получит достаточно большое пополнение, подходящее из внутренних воеводств и различных волостей земли Украинской, это уже известно.
— Я слышал, что граф будто бы собрал под свои знамена около семи тысяч воинов. Из них более трех с половиной тысяч [18] кварцяного войска, чуть больше тысячи сабель казаков реестра да около тысячи гусар. К тому же артиллеристов он, говорят, набрал из пруссаков и саксонцев. И в этом я ему завидую, а себе — нет.
Хмельницкий умолк и вопросительно взглянул на ротмистра. Но самое большее, что мог сделать для него Радзиевский, это помолчать и таким образом согласиться, что сведения, добытые казачьей разведкой, не так уж далеки от истинных.
— Нет-нет, докапываться до численности вашего войска я не стану, — с некоторой иронией нарушил это молчание ротмистр. — Тем более что знаю: оно значительно меньше числом и пока что слабо обучено. Кроме разве что отдельных сотен запорожцев и бывших реестровиков. В связи с этим граф Потоцкий как коронный гетман послал меня с предложением.
— Он — с предложением?! — поползли вверх брови Хмельницкого. — Каким именно? Неужели готов присоединиться со своими солдатами к моей повстанческой армии?
Радзиевский снисходительно поморщился. Он явился для того, чтобы вести серьезные переговоры, а не обмениваться колкостями.
— Потоцкий предлагает вам повстанческий отряд свой распустить, а самому явиться к нему с повинной. Причем сделать это как можно скорее, пока не пролились реки крови, то есть пока еще не поздно. Только тогда он сможет просить короля и сейм простить лично вас и собранных вами повстанцев. В противном случае коронный гетман вынужден будет истребить вас, стерев с лица земли все те укрепления, которые вы понастроили на островах.
— Надеюсь, коронный гетман догадывается, что попытки истребить нас будут связаны с серьезным риском?
— Для этого у него имеется все — даже целая флотилия боевых челнов.
— Вы приводите меня в трепет.
— Не храбритесь, господин полковник, не храбритесь. Подумайте о своей блестящей карьере, о жизни. Не смею распространяться о численности, но предупреждаю: буквально через несколько дней войско Потоцкого удвоится. Вы слышите, удво-ит-ся! Я довольно понятно изложил вам условия, выдвинутые его светлостью графом Потоцким, господин генеральный писарь войска реестрового казачества? Уточню: пока еще — генеральный писарь…
31
Хмельницкий долго молчал. Радзиевскому казалось, что он старательно обдумывает пункты ответа. На самом же деле в голове полковника эти пункты уже давно были составлены. Он понимал, что рано или поздно гонцы от Потоцкого прибудут и ему предъявят ультиматум. Сейчас гетман боролся с самим собой. Он старался сбить собственную спесь, унять раздражение, вызванное условиями коронного гетмана и наглым напоминанием о присяге королю.
Раздражительность и буйные вспышки гнева уже тогда стали проявляться в качестве неотъемлемых черт характера Хмельницкого и настораживали его ближайшее окружение. Но в те времена, осознавая свою слабость, будущий гетман всея Украины еще кое-как пытался выжигать ее остатками иезуитского спокойствия.
— Признаюсь, что, во избежание кровопролития, я и сам хотел направить к Потоцкому свое посольство. Но коль уж вы здесь и вам негоже являться без ответа, мои требования как раз и будут ответом. Они предельно просты. Избежать восстания, а значит, и кровопролития, удастся только в одном случае — если Потоцкий немедленно выведет польские войска с Украины…
Радзиевский все с той же снисходительностью рассмеялся.
— Он никогда не пойдет на это. Мне даже не хочется передавать ему это требование, настолько оно бессмысленное.
Хмельницкий воинственно ухмыльнулся.
— Если бы эти слова сорвались с ваших уст, когда вы выслушивали условия турецкого паши или перекопского мурзы, не говоря уже о султане или правителе Крыма, единственным красноречивым ответом коронному гетману явилась бы ваша насаженная на копье голова.
— Какая дикость, — поморщился Радзиевский.
— Реалии наших войн как раз и состоят из подобных дикостей. Вам очень повезло, что первое ваше парламентерство связано с визитом к человеку, знающему вас по салонам д'Оранж, де Ляфер и прочих графинь.
— Пожалуй, вы правы, — мужественно признал ротмистр, умерив свою гордыню. На какое-то время он действительно забыл, что пребывает в лагере врага и перед ним полководец, восставший не просто против Потоцкого, но против всей польской аристократии, и которому терять уже нечего.
— Дальше… Он должен сменить всех полковников реестра, являющихся польскими шляхтичами и, по существу, презирающих казачество и его вольности. Имена этих полковников Потоцкому, как и канцлеру Оссолинскому, хорошо известны по жалобам казачьей старшины. И еще: вернувшись в Варшаву, Потоцкий должен добиться, чтобы вся польская административная система в Украине была ликвидирована, а власть передана казачьей выборной администрации при сохранении всех прочих казацких вольностей.
Теперь настала очередь ротмистра долго и мучительно молчать, чтобы, с одной стороны подчеркнуть жуткую неприемлемость условий Хмельницкого, с другой — сохранить сугубо посольское смирение.
— Извините, господин полковник, но, независимо от того, принесу я свою голову в стан Потоцкого в собственных руках или же ее привезут, украсив один из гетманских бунчуков, реакция коронного гетмана от этого не изменится. Условия приняты не будут.
— Значение большинства условий, которые обычно предъявляются полководцами во время войны, заключается не в том, чтобы они хоть в какой-то мере были выполнены, уважаемый ротмистр. В выполнение их, как правило, не верят, а в большинстве случаев — и не желают его.
Радзиевский удивленно смотрел на Хмельницкого, явно не понимая, о чем это он.
— Истинный смысл подобных условий, — не замечал его удивления полковник, — в том, чтобы засвидетельствовать перед правителями, народами и историей, что они все же были предъявлены. А значит, полководец не шел со своими полками напролом, очертя голову, полагаясь только на сабли и пушки.
— В стане Потоцкого меня предупредили, что вы довольно тонкий и хитрый дипломат, — пришел в себя Радзиевский. — Однако не сумели убедить, что настолько коварный. Но, в общем-то, я признателен вам за первые уроки. Я ведь понимаю, что откровения, которым вы меня только что подвергли, преподнесены исключительно в виде наглядных примеров.
— Плата должна быть соответствующей. Она может выражаться в том, что мои условия вы передадите Потоцкому дословно.
Несколько мгновений Радзиевский стоял с закрытыми глазами, пытаясь погасить в себе очередную вспышку гнева и презрения.
— О том, что ваш ответ послужил Потоцкому поводом для начала войны, — медленно, почти сквозь сжатые зубы процеживал ротмистр, — вы, очевидно, узнаете уже не из моих уст, а по грохоту копыт польской конницы.
— Вот с этого-то грохота и начнется настоящая военная дипломатия, — охотно развил его мысль вождь восставших.
— Ну-ну, увидим, какая это будет дипломатия.
Хмельницкий поднялся из-за стола и внимательно осмотрел подносы, которые его оруженосцы наконец-то поставили на стол. Там стояли два кувшина вина и графинчик водки, а также исходило пряным духом жареное мясо. По меркам казачьих лагерей — почти королевская еда на королевском столе.
Хмельницкий налил себе и ротмистру вина, храня традицию, отпил первым и, подождав, пока Радзиевский осушит свой кувшинообразный походный бокал, открыл ему последнюю дипломатическую тайну.
— Пока что вы не знаете главного, ротмистр, — насколько коронный гетман Потоцкий будет признателен мне за услышанный вами ответ.
— Объяснитесь, полковник. Что-то совсем уж непонятно выражаетесь.
— Вы совершенно правы, ротмистр, ответом мне станет не универсал, хотя, возможно, Потоцкий и снизойдет до него, а грохот копыт польской кавалерии. Потоцкий будет признателен мне, что своим ответом я не вынуждал его ломать голову над более или менее приемлемым поводом для похода на Запорожье и объявления войны всей Украине, которую он начал бы при любых условиях.
— Но коронный гетман не может начать войну, не получив благословения короля.
— У командующего войсками, расквартированными на чужой земле, всегда найдется повод спровоцировать войну, поставив короля перед свершившимся фактом.
— Создавая полки повстанческого казачества, вы как раз и дарите ему такой повод.
— Вы, ротмистр, не можете или не хотите понять, что не армия моя, пока еще слабая, пугает коронного гетмана, а проснувшийся в народе бунтарский дух да казачья вольница. То и другое Потоцкий и его офицеры готовы выжигать денно и нощно.
Ротмистр вновь опустошил свой бокал и несколько минут отрешенно смотрел куда-то в сторону, думая при этом о чем-то своем. Если только вообще думал о чем-либо.
— В таком случае меня совершенно не радует признательность, с которой господин коронный гетман будет выслушивать мое сообщение, — признался ротмистр, решительно поднимаясь и давая понять, что визит завершен.
— Хотите взглянуть на крепость, которую мы возвели на острове Томаковском? Настоящую крепость, не уступающую Кодаку.
— Не тешьте свое самолюбие, полковник, еще как «не уступающую». Ничего общего с настоящей крепостью этот ваш укрепленный лагерь не имеет — вот что я вам скажу.
— Значит, вы уже видели ее? — хитровато блеснули глаза Хмельницкого. «Интересно, соврет или признается?» — прочитывалось в них.
— Видел. Мне удалось незамеченным проскользнуть между вашими сторожевыми куренями и проехаться по прибрежной возвышенности, с которой укрепления просматриваются довольно хорошо. Согласен, штурмовать их, форсируя днепровский рукав, будет очень трудно.
— То есть мои старания оказались не напрасными.
— Да, на островке ваши люди потрудились. До французских фортификаторов вам, конечно, еще далеко, но…
— Я не об острове и не о фортификаторах, а о том, чтобы мои сторожевые курени сделали вид, будто не замечают вашего появления. Благодаря чему вы смогли увидеть все, что захотели.
— Не поверю, что вы умышленно позволили мне превратиться в лазутчика.
— Один из моих разъездов заметил вас далеко от лагеря и тут же сообщил об этом. Теперь, надеюсь, вам будет, о чем рассказывать обоим Потоцким, а также польному гетману Калиновскому и королевскому комиссару Шембергу.
Несколько мгновений Радзиевский смотрел на полковника, не зная, как реагировать на его очередное признание, затем неожиданно рассмеялся.
Они смеялись вдвоем, искренне, дружески похлопывая друг друга по плечу, но положив, как водится, свободные руки на эфесы сабель.
— Оказывается, вы обманули меня, заявив, что тот, предыдущий, урок был последним, — молвил ротмистр на прощание.
— Приезжайте еще, ротмистр. У меня их припасено на все казусы и хитрости военной дипломатии.
32
Каменец встретил Гяура и его спутников проливным дождем. После каждого раската грома небо разламывалось на несколько обожженных молниями черепков, освящая землю новыми протоками весенней благодати. Холодные дождевые ручьи заливали каменистые склоны городских окраин, обрывистые берега реки и не поддающиеся ни ядрам, ни времени башни цитадели.
Встретившемуся им на пути трактиру «Семь паломников» воины обрадовались, как Ноеву ковчегу. Трактир в это предобеденное время был почти пуст, но хозяин его, Хаим Ялтурович, словно бы только их и ждал.
— Боже мой, и над плешивой головой бедного подольского еврея иногда, прошу прощения, восходит солнце, — подался он навстречу Гяуру с распростертыми объятиями. — Вы ли это, князь?! И снова, прошу прощения, к нам?! Сразу столько высокородных гостей — и все из Варшавы! Так я вас спрашиваю…
— В этот раз вы не ошиблись, Ялтурович, мы действительно прибыли из Варшавы, — улыбнулся Гяур, вспомнив, что любой высокородный проезжий сразу же становился для трактирщика Ялтуровича «гостем из Варшавы».
— Ялтурович, прошу прощения, ошибся только один раз в жизни, когда родился евреем. — Приземистый, основательно облысевший, в своем неизменном, расшитом узорами венгерском жилете, он суетился между столами, смахивал с них несуществующие крошки и все пытался усадить князя на «самое достойное» в его трактире место, которое сам еще не определил. — Во всех остальных случаях ошибались и продолжают ошибаться его враги. Потому что одни считают, что Ялтурович уже окончательно разорен и его уже давно нет; другие, наоборот, завистливо ворчат, что только Ялтурович в этом городе и есть — давно нет, прошу прощения, всех остальных.
— Так позвольте и им, этим другим, один раз в жизни ошибиться, — не удержался Гяур, усаживаясь, наконец, на то место, которое избрал сам. Причем избрал удачно, поскольку оно находилось у предусмотрительно зажженного камина, источавшего приблизительно столько же тепла, сколько «бедный подольский еврей» Ялтурович — слов.
Первой, с двумя графинами вина, появилась дочь трактирщика Руфина. С того времени, когда девушка безмятежно заигрывала с Гяуром, набиваясь к нему в любовницы, она непростительно похорошела, ошеломляя бравых вояк пышностью своей груди, округлостью бедер и миловидностью смуглого лица, обрамленного смолистыми завитками волос.
— Если кто-то решит жениться на этой подольской красавице, то должен делать это немедленно, — слегка подтолкнул полковник Улич локоть князя.
— Запоздалый совет.
— Я не о тебе, князь.
— Тогда сам и решайся.
— И не о себе. Так, вообще рассуждаю… Знаю, что через год она перезреет, как татарская дыня, ибо таков удел всех евреек, каковой бы красоты они ни были. Но год с ней еще можно поблаженствовать.
— Теперь я понимаю, почему Тайный Совет Острова Русов назначил моим советником именно тебя.
— Я плохой советник, поскольку позволил тебе, князь, растрачивать силы и кровь по чужим, вообще, по черт его знает каким, землям, все реже вспоминая о той земле, ради которой мы перешли когда-то на левый берег Дуная.
— Об этот мы поговорим в другой раз и конечно же не в трактире Ялтуровича, — пресек Гяур его дальнейшие рассуждения по этому поводу.
— Понимаю, сейчас мы говорим только о прелестях местной красавицы Руфины.
— Только это и позволяет мне посоветовать: женись на ней, — непонятно, в шутку или всерьез советовал князь. — Пока мы будем скитаться по Дикому полю, она нарожает тебе целый полк ялтурчат.
— Став твоим советником и оруженосцем, князь, я принял обет безбрачия, — строго напомнил Улич, многое познавший в этом мире, но так и не изведавший, что такое обычная застольная шутка Гяур посмотрел на него с сочувственной грустью. Он вспомнил Власту Ольбрыхскую — женщину, которую оставил, пробыв с ней всего две ночи кряду, так и не осознав ее собственной женой. А еще — Диану де Ляфер, которая, в отличие от графини Ольбрыхской, не родила ему дочери и не обещала сына, но которую он по-прежнему любил так, словно только она одна могла стать продолжательницей его славянского рода. Вспомнил других женщин — ему везло: все они были удивительно красивыми, — и понял, что не может отречься от них никакими обетами и запретами.
То ли все они действительно были на удивление смазливыми и заманчиво добрыми, то ли он обладал какой-то странной способностью влюбляться и любить многих из их коварного племени — этого он понять не мог. Зная о способности своего молодого мужа увлекаться, причем не только француженками, Власта жертвеннически напророчествовала:
«В объятия какой бы женщины ни бросила тебя пылкая страсть, все равно эта фурия останется для тебя всего лишь очередной женщиной. А судьба твоя — здесь, в Ратоборово, в замке “Гяур”».
«И ты никогда не будешь сгорать от ревности?» — не поверил ей князь.
«Поскольку давно сгорела в пламени своей обреченности на судьбу, которая мне досталась».
Гяур не мог не поверить этой женщине. Слишком уж она подвержена была веяниям собственной судьбы. И не его вина, что он не настолько любил Власту, чтобы возрадоваться ее преданности.
«Ничего, наша с тобой жизнь придет к нам со временем. И не здесь», — успокоила и благословила его перед дорогой Власта. У нее это получилось хотя и сдержанно, однако по-своему трогательно.
Из водопада воспоминаний князя выхватила Руфина. Зачем-то поставив перед ним еще один графин вина она уперлась коленкой в свободный стул и, налегая грудью на ребро стола, подалась к нему, повиливая плечами и бедрами.
— Так вы все еще помните меня, господин полковник?
— Уже генерал, — проворчал Улич, недобро поглядывая на девицу. — Советую запомнить это.
— Не-а, полковник, — не согласилась с ним Руфина, взгляд которой по-прежнему был прикован к князю. — Потому что я влюблялась в полковника и мечтала тоже о нем.
— Но ведь генерал выше по чину, чем он тебе не подходит?
— Именно тем, что еще выше по чину. Разве дочь бедного трактирщика из Каменца может влюбиться в самого генерала?! — округлила свои глаза-маслины девушка. — Так вы все еще помнили, какой я была из себя, господин полковник?
— Помнил, конечно, — сухо ответил Гяур.
— И даже в Париже?
— Даже в Париже, — без зазрения совести соврал он, считая, что не обязан прибегать к подобным заверениям. — Особенно в Париже.
— А чтобы такие вот, по-настоящему красивые еврейки в Париже вам хоть раз встречались?
— Ни одной. Теперь я твердо знаю, что все красивые еврейки живут в Каменце.
Закрыв глаза, Руфина по-кошачьи изогнула свой стан и несколько раз призывно провела грудью по краешку стола, как по лезвию бритвы. Вряд ли она поверила Гяуру, тем более что правдивости в его словах девушка не требовала, главное, что они были молвлены.
— И я тоже помнила о вас. Почему-то о вас, и ни о ком больше. Хотя интересовались вы только Властой. Но вы же знаете: сегодня эта босячка здесь, завтра там. А когда бедная еврейская девушка влюбляется, то она, таки да, влюбляется навсегда. И верной остается тоже навсегда.
— Эта «босячка», как ты изволила выразиться, является княгиней Ольбрыхской, — вновь вклинился в их разговор Улич. — А уж для тебя — тем более, дворянкой, и даже истинной аристократкой.
— Словом, иди себе, девка, и думай не о князе Гяуре, а о своей работе, потому как голодны мы, как медведи после зимней спячки, — прохрипел Хозар, уже успевший согреть остывшее под дождем горло молдавским вином.
— Да оставьте ее в покое, — проворчал Гяур. — А ты, Руфина, и в самом деле позаботься о еде. Ее должно быть много, особенно мяса.
— Будет вам и вино, и мясо, князь. Мяса у нас всегда много, — ничуть не смутилась еврейка, не меняя ни игривости голоса, ни соблазнительности позы. — Но все почему-то замечают только мое мясо и мое вино, и никто не замечает меня. Хотите сказать, что это справедливо?
— Неправда, ты красивая девушка, — князю почему-то стало жаль провинциалку, поэтому он старался говорить так, чтобы Руфина поверила в искренность его слов. — Тебе только кажется, что тебя не замечают. На самом же деле половина женихов этого города готова пасть к твоим ногам…
Еврейка грустно покачала головой.
— После вина их интересует мясо, после мяса — вино. Иногда, после всего прочего, мои бедра. К ногам они могут пасть, но только для того, чтобы завладеть ими.
— Знали бы они, что теряют!
— Такие слова произносят только в постели, — игриво обожгла его взглядом. — Или после постели. Разве вы когда-либо согревали постель влюбленной Руфины?
— Но тебе уже приходилось слышать подобные слова?
— Тогда, помните, когда вы пришли сюда одни… Ну, когда хотели поговорить то ли с Властой, то ли с Ольгицей. Я сказала себе, что услышу их от вас. Только от вас.
Гяур удивленно ухмыльнулся и попытался усовестить девушку, но она не собиралась выслушивать поучения князя, повернулась и, еще более вызывающе играя бедрами, ушла за перегородку, откуда обычно появлялась вместе со слугой Мыцыком.
Однако в этот раз они вышли вчетвером. И без слуги. Высоко, чуть ли не над головой подняв огромный поднос, Ялтурович гнал впереди себя сразу трех девушек с чуть меньшими подносами в руках.
— Нет, вы видите, князь?! — провозгласил трактирщик, остановившись в двух шагах от стола Гяура. — Это и есть все три мои дочери. Пока вас не было, они так подросли, что теперь я, прошу прощения, уже не рад, что вы вновь появились.
— Не волнуйтесь, Ялтурович, мои парни не тронут их, — клятвенно пообещал Гяур, смеясь и восхищенно осматривая всех троих.
В сравнении с двумя младшими сестрами лет шестнадцати-семнадцати, с тонкими станами и круглолицыми, Руфина уже явно начинала проигрывать. И она, очевидно, понимала это, поскольку чувствовала себя неловко, как перезревшая матрона в кругу юных девиц. Даже отступила чуть в сторону, чтобы открыть взору офицеров своих сестер.
— Так вот, вы, прошу прощения, видите их всех троих — Руфина, Мария и самая младшая — А? дочка. Пусть кто-нибудь попробует убедить меня, что они — не первые красавицы Каменца! А еще вы видите перед собой трактирщика, который, прошу прощения, здесь, в подольской глуши, умудрился вырастить трех дочерей, но так ни разу в жизни не побывать с ними в Варшаве. Так я вас спрашиваю: найдется ли офицер, который побывает с моими дочерьми там, где не сумел побывать я?
— А что, Мария мне нравится, — воспользовался случаем Хозар.
Ялтурович услышал это. Как услышала и Мария. Она была ниже всех ростом, но, пожалуй, самая красивая лицом. Трактирщик по-отцовски и укоризненно взглянул на ротмистра: стоит ли насмехаться над младшей из дочерей?
— Она действительно нравится мне, — стоял на своем Хозар. — Остальные две тоже хороши собой, но эта… Эта какая-то особенная.
— Ты говоришь это при отце, — вполголоса напомнил Гяур.
— Потому и говорю, что при отце, и говорю правду. Может, и женился бы на ней, если бы… Словом, ты же знаешь, князь, сколько всяких «если бы» возникает у странствующих рыцарей.
Ни Ялтурович, ни Мария ничего не молвили в ответ на его восхищение, хотя Гяур заметил, что девушка внимательно присмотрелась к сидевшему под светильником офицеру, очевидно, пытаясь запомнить его.
* * *
Трактирщик и его дочери поставили на стол графины с вином и подносы с едой. В ту же минуту появились два скрипача, составляющие оркестр трактира.
— Только я тебя сразу же прошу, Янкель, — обратился к одному из них Ялтурович. — Когда ты перестаешь бояться Господа и берешься за скрипку, то побойся его еще раз, вспомнив, что играешь в трактире, а не на похоронах.
— Так я ж только то и делаю, что вспоминаю Господа. Но еще не было такого, чтобы он хоть на минутку вспомнил о скрипаче Янкеле.
— Потому что всякий раз, когда ты фальшивишь, то начинаешь гневить его еще больше, чем меня. Скрипка, прошу прощения, или играет или молится. Так делай что-нибудь одно, Янкель. Разве я неправ, князь?
— Как всегда, господин Ялтурович, как всегда. Я почему-то частенько вспоминал ваш трактир. Возможно, потому, что именно здесь Ольгица напророчила мне и полковнику Сирко «дальнюю страну за три земли» или что-то в этом роде.
— У О? льгицы это случалось. Она умела видеть будущее всех людей вокруг кроме своего собственного. Так я вас спрашиваю: кто в этом городе способен был напророчить пророчице кроме бедного трактирщика Ялтуровича?!
— Зато все сбылось: мы только недавно вернулись из Франции, из той самой «дальней страны за тремя землями».
— Значит, все оказалось правдой? — расплылся в грустноватой улыбке Ялтурович. — И вы таки были в Париже?
— Естественно. И не только в Париже.
— Ну, зачем, прошу прощения, человеку, который побывал в Варшаве, бывать еще и в Париже? Когда на одного человека наваливается сразу столько счастья, он начинает чувствовать себя несчастным. И знаете, я не сомневался: коль уж Ольгица сказала, то это, прошу прощения, сказала Ольгица. Как сказала она майору де Рошалю, этому негодяю. Она умела видеть и умела сказать. У нее это получалось, а вот у меня — нет. Потому и чувствую, что не хватает ее в нашем трактире, не хватает. Когда такой рыцарь, как вы, выпьет вина, ему сразу же захочется послушать Ольгицу, а когда выслушает ее — сразу же снова набрасывается на вино. Так я вас спрашиваю…
— Если бы графиня Ольгица могла восстать с того света и появиться в вашем трактире, мы чувствовали бы себя, как два года назад. Словно ничего и не произошло.
На несколько мгновений Ялтурович молча уставился на Гяура. Затем наклонился и, упершись руками о ребро стола, нагнулся к нему.
— Как мне послышалось, так вы, прошу прощения, что-то сказали о «том свете», князь?
— Что вас так удивило? Графиня Ольбрыхская умерла. Самой важной «гостьи из Варшавы» у вашего трактира больше нет. Вы что, не знали о смерти графини?
— Если вы говорите то, что я сейчас слышу, то я, прошу прощения, хочу спросить вас, кто вам это сказал? Только вчера под вечер госпожа Ольгица сидела вон за тем столом, где сидела всегда, когда вы еще были в Каменце. Ее очень долго не было в городе, она уезжала в Польшу, но вчера. Так я вас спрашиваю…
— Не берите грех на душу, Ялтурович, она мертва.
— Так не шутят, князь. Со смертью и скорбью по умершим, прошу прощения, не шутят.
Гяур и Ялтурович вдруг молчаливо оглянулись на тот пустующий стол, за которым любила сидеть Ольгица. Все три дочери уже ушли за новой порцией еды, и мужчинам ничто не мешало помянуть слепую провидицу.
— В вашем трактире, Ялтурович, конечно, всякое может случиться. Я всему готов верить, — молвил Гяур. — Однако Ольгица умерла. Я собственными глазами видел костер, на котором сожгли ее тело. Знаю реку, над которой развеяли пепел. Все это происходило в имении графини.
Улыбки на лицах обоих были извиняюще неловкими. Наступила ситуация, выходить из которой обычно очень трудно.
— Я мог бы попросту извиниться, господин генерал, если бы, прошу прощения, то, о чем только что сказал, не было святой правдой. Так я вас спрашиваю…
— Я тоже готов хоть сейчас извиниться. Но для меня важна истина. Вы действительно видели здесь Ольгицу? Причем не мимолетное привидение, а саму провидицу.
— Порази меня гром, а под моим трактиром пусть разверзнется земля. Вы, прошу прощения, не знаете, чем еще может клясться бедный подольский трактирщик? Так я вам скажу: больше ему клясться нечем.
— Она была здесь и сидела вон за тем столом?
— Где обычно, прошу прощения. Как всегда.
— И происходило это вчера?
— Поздно вечером. Когда все разошлись, и мы уже собирались закрывать. Вы конечно же не верите мне?
— Обстоятельства заставляют не верить.
— Руфина, Ада! Дочери мои! — позвал Ялтурович. — Они ведь, прошу прощения, не слышали о нашем разговоре, правда? — обратился к Гяуру. — Так вот, Руфина, вспомни-ка, кто вчера заходил к нам в трактир?
— Когда это? — повела грудью и бедрами так, словно выпутывалась из веревок.
— Ну, поздно вечером, когда, прошу прощения, мы уже должны были закрываться?
— Да слепая откуда-то появилась. Ольгица. Почти два года ее не было, слух даже пошел, что будто бы умерла. А тут вдруг — на тебе…
— Значит, она все-таки появилась? Восстала из пепла? — осипшим голосом молвил Гяур.
— Князь-то утверждает, что сам видел, как сжигали ее прах, — объяснил дочерям Ялтурович.
— Она говорила что-нибудь? — спросил Гяур. — Обо мне, Власте? О моем приезде? Хоть какие-то слова произносила? Только — правду, правду…
Отец и дочери переглянулись и дружно пожали плечами.
— Как сейчас помню: молча зашла, — молвила Руфина. — Но это нас не удивили: обычно она всегда входила молча.
— Всегда молча, прошу прощения, — взволнованно подтвердил трактирщик сказанное дочерью.
— Ну, посидела несколько минут. Я еще поздоровалась с ней, спросила, что она будет есть-пить? Ничего не ответила, вообще ни словом не обмолвилась. Посидела, встала и ушла.
— В таком случае, я готов поверить, что и в самом деле мир не таков, каким он нам представляется, — растерянно признал князь после минуты глубокого молчания.
— Мир, прошу прощения, вообще не такой, каким его замыслил Господь.
— Так утверждает ваша иудейская вера?
— Так утверждаю я, бедный подольский еврей. Потому как знаю, что, создавая этот мир, Господь даже представить себе не мог, что сотворит в нем каждый из нас.
33
Свои заградительные сотни Хмельницкий выставил на изгибе Днепра, между небольшой рощей и подходящими к краю полуострова белесыми скалами. Казаки сразу же почувствовали себя здесь, как в естественной крепости. Обойти этот речной мыс незамеченной флотилия Барабаша не могла, а сам гетман твердо решил: если у Каменного Затона, расположенного в нескольких верстах выше их засады, переманить к себе реестровиков не удастся, то у «Днепровского Царьграда», как в шутку прозвали повстанцы свою горную цитадель, он даст им бой.
— Однако заночевать они все же должны у Каменного Затона, — предугадывал развитие событий полковник Ганжа. — Мои лазутчики советовались с рыбаками. К вечеру реестровики достигнут Затона, а проходить ночью между каменистыми островками не рискнут. Тем более что оттуда до польского лагеря — как раз дневной переход.
— Так будем же молиться твоим лазутчикам, — благодушно согласился гетман. — Кто ведет передовой отряд?
— Твой старый знакомый, полковник Кричевский.
— Барабаш так и не сменил его? Странный он человек. Ему бы, по трезвости, держать этого офицера подальше от нас…
— Возможно, он считает, что послал провинившегося полковника на верную гибель. Когда мы нападем, первому принимать бой Кричевскому.
— Если только нам взбредет в голову нападать на Кричевского, — вслух рассудил гетман. — Вернешься к Каменному Затону, — приказал он Ганже, — и любой ценой выманишь Кричевского на переговоры. Под началом Кричевского и Барабаша пребывают такие же казаки, как и мы, причем опытнейшие воины. Меня земля наша проклянет, если в братоубийственной бойне я позволю себе загнать их в могилы.
— Но эти опытнейшие воины — наши враги. — Невысокая, почти квадратная фигура уманского полковника излучала какую-то особую, добрую силу. Крутолобая голова Ганжи была посажена прямо на плечи, и лишь когда он старался казаться чуть выше своего неудавшегося роста, на какое-то мгновение открывалась его тучная, обхваченная обручами складок шея — багровая и мощная, вбирающая в себя весь гнев этого мрачного, молчаливого человека, всю неизведанную им самим силу.
— Чем меньше мы прольем крови своих братьев-казаков, тем больше простит нам Господь вражьей.
— Пергаментно молвишь, — признал Ганжа, нахмурив лоб и мучительно пытаясь проникнуть в самую мудрость слов повстанческого командующего.
Ганжа решил взять с собой всего тридцать человек. «Чтобы без лишней суеты, пергаментно…» — лаконично объяснил он. И Х? мельницкий не стал возражать. Он знал: полковник не любил многолюдья. По складу своего характера, по умению оценивать обстановку на поле боя, этот человек не должен был командовать ни полком, ни вообще большим отрядом. Он не любил большой массы войск, боялся затеряться в ней, а потому как можно быстрее стремился выделиться из нее, вырваться, замкнуть бой на себя.
В общем-то, Хмельницкому пока еще нечасто приходилось наблюдать Ганжу во время боя. Разве что под Кодаком, да во время нескольких мелких стычек с польскими заставами, при переходе от Кодака к Желтым Водам. Но виделся ему Ганжа именно таким.
Ожидание было тягостным. Чтобы хоть как-то занять казаков, Хмельницкий разослал во все концы разъезды, а остальных заставил возводить небольшой вал у входа на каменную косу, готовя свой временный лагерь к тому худшему, что должно было здесь произойти.
Сам он большую часть времени проводил, сидя на уступе скалы, нависающей над днепровским водоворотом. Огромная река с небольшими зелеными пятнами островков у противоположного берега; каменные валуны у подножия скалы, и пенный водоворот, в бессмысленной силе которого сгорала сама вечность этой вечной реки, заставляли мысль метаться между прошлым и будущим, между рекой и небом, между реальностью военного бытия и заоблачностью романтических бредней.
Уступ, на котором он восседал, был похож на трон. Казаки успели подметить схожесть и назвать его «троном гетмана». Узнав об этом, Хмельницкий, возможно, впервые ясно осознал: то, что происходит здесь в эти дни, уже принадлежит истории. Когда-нибудь хронисты попытаются проследить и оценить каждое передвижение его войск, каждое его решение, каждый замысел. Даже тех, смысла которых он и сам не в состоянии познать. «Так, может, — спросил себя гетман, — и в самом деле следует позаботиться о появлении в твоем войске хронистов, которые уже сейчас, по свежим следам, творили бы историю твоих битв и походов? А то ведь переврут потом знатоки старины. Все, что по бумагам старинным не осмыслят, тотчас же переврут».
Он подолгу всматривался в мутноватые воды реки, отчетливо понимая, что точно так же когда-то всматривались в нее стольные киевские князья, предводители гуннов и воители монгольских орд. Река воспринималась им как хранительница памяти этой земли; непостижимое в своей бессмертности течение времени давно слилось с течением Днепра, прошлое переплелось с будущим, а человеческая жизнь мелькала на фоне этого зазеркалья вечности, как крупинка золота — в безжизненных дюнах мертвой пустыни.
— Наткнулись на разъезд польских драгун! — докладывал сотник Савур. — Четверых застрелили, двух раненых взяли в плен, остальные сумели уйти.
— Они двигались навстречу реестровикам?
— Нет, за нами следили, ангелы смерти!
— Допросить и…
— …И что? — не понял Савур.
— Не заставляй гетмана казнить тогда, когда только он способен помиловать.
— Тебя не перемудришь, командующий. У Днепра они свое получили, пусть теперь бредут к Висле.
Не успел Савур, перескакивая с камня на камень, добраться до стоящего под скалой коня — он ставил его так, чтобы в крайнем случае в седло можно было прыгнуть прямо с вершины, — как справа, у подножия трона, появился старый сечевик Ордань.
— Перехватили двух гонцов, посланных Барабашем в стан Стефана Потоцкого, сына коронного гетмана!
— С чем же они шли?!
— Им велено было обещать, что завтра к польскому лагерю подойдут отряды реестровых казаков!
— Сами-то они — реестровики?
— И просятся к тебе на службу.
— Пусть поклянутся перед твоими казаками. Но прежде, для надежности, окрести их двумя десятками плеток, чтобы впредь знали, с кем и против кого идти. Только не перестарайся.
— Старинный казачий способ учения, атаман! — Хмельницкого он упорно называл атаманом, а не гетманом, однако поправлять его, сотника, Хмельницкий не решался. Ко всякому старому сечевику он по-прежнему относился с уважением новичка, неспособного постичь все премудрости опытных воинов, а потому преклоняющегося перед ними.
Еще несколько минут молчаливого созерцания Днепра, и вновь у подножия «трона гетмана» появился вестовой.
— Прибыл полковник Криса [19] с сотней казаков, да с тремя сотнями занятых у татар лошадей, которых ведут два десятка табунщиков.
— Зови его, поговорить с полковником надо.
Едва в горной крепости Хмельницкого зажглись первые костры, как прискакал гонец от Ганжи, вместе с которым неожиданно прибыл Кричевский. Появление полковника настолько удивило и обрадовало Хмельницкого, что он даже не пытался скрыть своей радости.
— Когда я узнал, что войска Барабаша ведешь ты, то поначалу не поверил, — объятиями встретил Кричевского гетман. Ему всегда нравился этот, с виду вальяжный, польский аристократ — худощавый, до чопорности сдержанный, совершенно непохожий на тысячи других казачьих офицеров.
Идя на Сечь, Хмельницкий втайне рассчитывал, что рано или поздно Кричевский присоединится к нему, превратившись то ли в генерального писаря повстанческой армии, то ли в дипломата.
— Мне и самому не совсем ясно было, куда и зачем веду казаков, что меня ждет.
— Я, конечно, помню, что обязан тебе своим спасением. Если бы не ты…
— Можешь считать, что с сегодняшнего дня я тоже обязан тебе спасением, — деликатно прервал его Кричевский. Даже при свете луны и костра мундир офицера немецких драгун сидел на нем с завидной изысканностью, подчеркивая в фигуре тридцатилетнего дворянина его прирожденную воинскую выправку. — Причем прежде всего спасения от позорной славы полковника, сражавшегося против армии Хмельницкого.
— Ты прав, полковник: порой слава действительно бывает позорной, об этом тоже нужно помнить.
Их объятия были искренними. И не только потому, что уже много лет их сближало кумовство — особый род побратимства, ценимого в Украине, как нигде в мире, где существует институт кумовства. Хмельницкий давно знал, что этот аристократ украинской крови тяготится службой польскому королю. Особенно, когда приходится подавлять очередное украинское восстание. И что так же, как он, Хмельницкий, киевский полковник, мечтал о дне, когда Украина вновь обретет свою государственность, возродив ее на руинах некогда могучей Киевской Руси.
— Ты, вижу, облачен в германский мундир. С чего бы это?
— Благодаря Тридцатилетней войне по всей Европе пошел слух о храбрости и мужестве прусских драгунов. Поляки наняли две-три сотни этих вояк, а теперь одевают в прусские мундиры реестровых казаков да польских аристократов-волонтеров.
— Вместо того чтобы нанимать все новых и новых драгун?
— А главным образом для устрашения восставших.
— Коронный гетман Потоцкий решил воевать против меня мундирами, — въедливо улыбнулся командующий. — Занятно слышать такое. Увидим, как это у него получится.
— Мой отряд расположился всего в трех верстах отсюда. Чуть дальше — отряд, который ведет атаман Барабаш. С ним — десятка два приближенных казачьих офицеров, преданных Барабашу так же, как и польскому королю.
— Значит, они настроены воевать?
— Чего не скажешь о большинстве моих казаков-драгун. Барабаш захватил с собой значительно больше офицеров, чем нужно, рассчитывая, что часть присоединившихся к тебе казаков, особенно реестровиков, присоединится к нему еще до первого боя. Остальные, уцелевшие, — после первого твоего поражения. Барабаш уверен, что после разгрома твоей армии в казачьих землях не останется полковника, который бы помешал ему захватить булаву гетмана не только казачества, но и всей Украины. Чего он и намерен добиваться от польского короля как достойной платы за участие в войне против восставших.
— Кто бы мог подумать, что король приобретет себе такого дорогого, но бездарного наемника? — иронично молвил Хмельницкий, тотчас же приказав седлать коней.
— Дорогого и недолговечного, — угрожающе пообещал Кричевский. — Полякам он уже осточертел своей тупой услужливостью, вечными претензиями, выпрашиванием чинов и имений, а казакам — своей подлостью и жестокостью. Большинство хоть сейчас готово сменить Барабаша на полковника Хмельницкого, сам сможешь убедиться в этом.
— Уверен, что их вполне устроит полковник Кричевский. Мне и навязывать его не придется, — довел командующий этот разговор до логического конца. — На кого из окружения Барабаша мы сможем рассчитывать в первую очередь? — спросил он, уже выводя казаков из горной крепости и рощи на оголенную холмистую возвышенность, за которой, у каменистой гряды, прозванной Каменным Затоном, расположился лагерь реестрового полка.
Кричевский призадумался. Потом назвал несколько ни о чем не говорящих Хмельницкому имен, в которых и сам не был уверен. К тому же никакого особого влияния среди реестровиков эти люди не имели.
— Постой, да там же Джалалия [20]. Сотник Джалалия.
— Татарин-выкрест? Знаю. Суровый воин. Перейдет ко мне, назначу полковником. Так и передай ему.
— Уж кто-кто, а Джалалия будет наш, — пришпорил коня Кричевский, поглядывая на все более разгоравшуюся луну.
34
Несколько дней Гяур провел в полку, которым командовал до отплытия во Францию. Норманн Олаф, ставший здесь старшим вместо него, дослужился до подполковника и драгун своих содержал в той исконно норманнской строгости, к которой привык еще на службе в шведской армии.
Гяур не только принял от него полк, но и по приказу польского гетмана Калиновского присоединил к нему три эскадрона улан, батальон пехоты и две артиллерийские батареи. Все это на французский манер было названо «экспедиционным корпусом», с которым генерал Гяур должен выступить на воссоединение с армией коронного гетмана Николая Потоцкого.
Эскадронами улан Гяур поручил командовать полковнику Уличу. Драгунский полк оставил за Олафом, представив его к чину полковника. Артиллерию отдал в ведение ротмистра Божедара, который неожиданно напомнил о себе, заявив, что после первой встречи с Гяуром считает себя русичем. Хотя главным явилось то, что когда-то Божедар начинал свою службу в артиллерии. И только Хозар в чине ротмистра по-прежнему оставался его адъютантом и оруженосцем.
Но если покончить со всеми хлопотами, связанными с формированием корпуса, ему удалось довольно быстро, то куда сложнее оказалось решить наиболее важную для себя проблему: как избежать похода против повстанцев Хмельницкого? Тем более что все чаще он задавался вопросом: а не выступить ли ему в поддержку гетмана Украины?
— Знаю, генерал, знаю… Кровь русича не позволит вам сражаться против украинцев так, как сражались бы против поляков. — Это Коронный Карлик. «Черный человек в черном» появился в Каменце на второй день после прибытия туда Гяура. Но князь так и не понял: была ли встреча с ним основной целью появления в городе тайного советника и королевского комиссара по особым поручениям, или же у того существовали какие-то иные интересы.
— Вы правы, господин Вуйцеховский: с меня достаточно того риска, который пришлось познать во Франции, и той крови, которую довелось там пролить.
— Но ведь вы не просто какой-то там придворный рыцарь. Вы — из того вымирающего племени, которое всегда считало себя странствующими рыцарями. Разве для рыцаря так уж важно, где сражаться и за кого гибнуть? Главное, чтобы и сражаться и погибать по-рыцарски.
Они сидели в той части казармы, которую генерал превратил в свой штаб, пили вино и время от времени посматривали на расстеленную посреди стола карту Украины, копию той, что была составлена французским офицером на польской службе майором де Бопланом, теперь уже известным фортификатором. Принадлежала она Коронному Карлику, который для того и развернул ее, чтобы собственноручно пометить путь, пройденный казаками Хмельницкого, и территорию, оказавшуюся под его контролем. Ныне на этой территории, выходившей далеко за пределы традиционных земель запорожского казачества, находилась не только сама Сечь, но и два больших укрепленных лагеря, служивших гетману базами для формирования повстанческих полков.
— Ваши слова были бы справедливы в том случае, если бы речь действительно шла о странствующем рыцаре, — холодно заметил Гяур. — У меня же совершенно иная миссия в этом мире и в этой стране. Но в любом случае мне кажется странной сама ваша попытка наставлять меня на путь рыцарства.
— Что вы, господин генерал, князь и будущий правитель Острова Руссов, — продемонстрировал Коронный Карлик знание той истинной цели, которая привела Гяура на холмы Подолии. — Мне ли?
— Но ведь вы явились, чтобы уговорить меня выступить против казаков. Очевидно, кто-то в Варшаве решил, что мой корпус должен стать основной воинской силой Речи Посполитой в борьбе с повстанцами.
— Именно так и решили.
— Значит, я получу приказ воеводы, а может быть, польного или коронного гетмана выступить в поход.
— Не сомневайтесь, получите. Буквально завтра. В ставке главнокомандующего рассуждают так: корпус уже сформирован, командование принял опытный французский генерал. А тем временем повстанцы действуют все более активно… Стоит ли медлить с переброской корпуса в Дикое поле?
Князь удивленно уставился на Коронного Карлика. Причем теперь уже в его взгляде не было воинственного неприятия этого странного, как сказал бы Ялтурович, «гостя из Варшавы»; на смену ему пришло обычное человеческое любопытство.
— В таком случае мне совершенно не понятно, с чем прибыли вы, господин Вуйцеховский.
— В отличие от вашей великой миссии спасителя земли славянской моя миссия скромна. Я всего лишь хотел дать вам небольшой совет: чей бы приказ вы ни получили, пусть даже за подписью и печатью самого короля, не торопитесь проявлять особую ретивость.
— То есть вы советуете не выполнять приказы польского командования?
— Я так не говорил. Думал тоже не совсем так.
— Тогда в чем смысл вашего визита ко мне, какова цель приезда сюда? Только в том, чтобы дать тот совет, который только что попытались дать мне?
— Извините, у меня такая служба — давать советы. Буквально всем — от короля до палача. И, что самое странное, оба — и король, и палач — как правило, прислушиваются.
— Не отвлекайтесь, господин Вуйцеховский, не отвлекайтесь. Так что там о… ретивости?
— В таком случае мы должны заверить друг друга, что с этой минуты все сказанное нами во время разговора остается сугубо между нами. Считайте, что мои заверения уже прозвучали.
— Мои тоже. Под слово чести.
Коронный Карлик закрыл глаза и, запрокинув голову, выдержал такую утомительную паузу, словно забыл о собеседнике или уснул.
— Восстание Хмельницкого, — заговорил, когда Гяур уже не рассчитывал услышать от него хотя бы слово, — это не совсем то восстание, которое видится некоторым его атаманам. Конечно, народ, получив оружие, звереет во стократ сильнее. Остановить, удержать его в рамках рыцарского приличия или хоть каких-то цивилизованных правил ведения войны будет сложно. Но дело не в этом. Химера всего этого казачьего бунта заключается в том, что он спровоцирован самим королем Владиславом IV. Поднимая это восстание, Хмельницкий выполняет тайный приказ короля.
Теперь настала очередь генерала надолго умолкнуть, но не потому, что он решил держать такую же артистическую паузу, какой только что удивлял его Вуйцеховский.
— И вы хотите, чтобы я поверил в эту блажь? — спросил он.
— Уверен: вы достаточно благоразумный человек, чтобы поверить в нее.
— Получается, что вы — ненавистник короля? — совершенно искренне предположил Гяур. — Никогда бы не подумал.
— Ненавидеть короля — пошло, князь. Любимых королей все равно ведь не бывает. И вообще не для того они созданы Господом, чтобы мы любили их, а для того, чтобы при одном упоминании об «их величествах» вселяли в свои души страх и смирение, смирение и страх… Перед Богом, короной и судьбой. Вам не кажется, что я вновь берусь поучать вас?
— Пока нет. Однако понимаю, что сказано вами далеко не все. Что вас сдерживает?
Коронный Карлик продолжал вести себя совершенно раскованно, и это немного коробило князя. В конце концов кто он такой, этот тайный советник?!
— Не так-то просто высказать, что я хотел бы высказать вам. Видите ли, нынешнее восстание понадобилось королю… Словом, оно было задумано, чтобы с одной стороны позволить Хмельницкому собрать казачье-крестьянскую армию, а с другой — заставить польский сейм разрешить королю собрать собственно польскую армию якобы для подавления восстания в Украине. Когда эти две воинские силы после нескольких степных турниров объединятся, татары и турки с удивлением увидят у своих границ мощную армию, готовую не только вытоптать копытами весь Крым, но и прогнать турок с Северного Причерноморья под стены столь любимого ими Стамбула. Вам не кажется, что я опять поучаю?
— Но если все, что вы говорите, правда…
— Не заставляйте меня клясться на Библии. Такого надругательства над собой она, как правило, не выдерживает.
— В таком случае меня удивляет, почему вы посвящаете меня, иностранца, в тайну польского королевства.
— Вовсе не потому, что мне не о чем больше говорить с вами за кубком вина, — мрачновато ухмыльнулся Коронный Карлик. — Скажу больше: вы совершенно не устраиваете меня как собеседник. Но есть высшие интересы королевства, генерал Гяур. Высшие и святые… — решительно проткнул он указательным пальцем пространство между своей головой и небом.
— В таком случае я так и не уловил их направленности. Эти ваши «высшие интересы» обязаны заставить меня выступить против Хмельницкого или же, наоборот, громить польские гарнизоны? Начиная с того, который засел в Каменецкой крепости? Вы уж говорите откровенно, господин королевский комиссар и тайный советник. Как скажете, так и…
— Когда вы получите приказ коронного гетмана выступать против Хмельницкого, вам трудно будет не подчиниться ему. Но в то же время вы можете еще несколько дней выждать, ссылаясь на то, что желаете видеть приказ самого короля. И не спешить к месту сражения, а составить гарнизон какого-либо городка, милях в пятидесяти от Каменца, и начать затяжные переговоры с Хмельницким.
— То есть я должен демонстрировать верность королю при полном игнорировании амбиций и неразумных приказов коронного гетмана?
— Мне ни за что не удалось бы сформулировать эту мысль столь по-военному четко и по-граждански философично, господин генерал, как это сделали вы. Я всегда трезво оцениваю собственные возможности, а потому почти избавлен от амбиций.
— Хорошо. Таким образом я потяну еще две-три недели. Что дальше? Ждать, когда коронный гетман выступит против меня со своими полками как против бунтовщика?
— Затем вы понадобитесь королю. Не исключено, что ваш корпус, как уже давно сформированный, имеющий опытных воинов, станет основой новой королевской армии, которой придется воевать не с казаками или с придунайскими русичами, а с турками и татарами. Такой противник вас, подданного турецкого султана, устроит?
— Султан — неминуемый враг любого славянина.
— Вот видите: а мы с вами как-никак славяне! — неподдельно возрадовался Коронный Карлик. — Вот о чем мы иногда забываем, князь. Существует то, что нас объединяет: все мы — русичи, украинцы, казаки, карпатские русины, не говоря уже о нас, грешных поляках, — славяне! Вот девиз той армии, которую, вполне возможно, вы и возглавите. Вместе с Хмельницким, с которым там, во Франции, вы, кажется, неплохо ладили. — А немного помолчав, добавил: — Но можно и без него.
— То есть такой вариант — «без него» — для короля и его сторонников предпочтительнее?
— Сами понимаете: некоторым польским аристократам трудно будет находиться в подчинении бывшего командующего повстанческой армией, пролившего немало польской крови. Точно так же, как Владиславу IV трудно будет положиться на польских аристократов — Потоцкого, Калиновского, Вишневецкого, Любомирского, усиленно выступающих сейчас против своего короля. А что касается вас, героя Тридцатилетней войны, французского генерала, потомка князей Рюриковичей, вполне реального претендента не только на княжеский престол Острова Русов, но и на престол Речи Посполитой… Я что, опять увлекся, князь?
Гяур цедил сквозь зубы красное молдавское вино и сосредоточенно кивал, пытаясь осмысливать не только то, о чем говорит этот Коронный Карлик, но и почему он это говорит и чьими устами.
— Но даже после этого вы, по-моему, сказали не все.
— Я должен указать вам путь к польской короне? Доложить, что королевская чета восхищена вами? Особенно королева…
— Я прибыл в Польшу на одном судне с принцем Ян-Казимиром и прекрасно знаю, кем сейчас королева восхищается, а против кого намерена выступать, причем самым решительным образом.
— Кем она пока что вынуждена восхищаться, князь, кем вынуждена… — уточнил Коронный Карлик. — И давайте не будем судить ее так строго, как привыкли судить всех кроме себя.
— Словом, о пути к польской короне нам лучше поговорить в следующий раз.
Королевский комиссар умолк и задумчиво изучал генерала. Ему нравился этот человек. Нравилось, как он держится, как пытается избегать придворных интриг. Точнее, пытается избегать самого присутствия своего при дворе…
— В этой войне вам может выпасть особая роль, господин генерал. Ваше княжество осталось где-то там, в низовье Дуная, разве не так?
— Вы достаточно осведомлены по поводу моего происхождения и моей миссии.
— Но, согласитесь, пока что вы ровным счетом ничего не предприняли, чтобы хоть как-то приблизиться к вашей тайной цели — возродить славянское княжество в устье Дуная, на территории, именуемой некоторыми восточными путешественниками и картографами Островом Русов. Решитесь не согласиться с моими выводами.
— Не решусь.
— И я знаю, почему не решитесь. Потому что вы пока что не определились, как вам продвигаться к своей цели, находясь далеко от своей земли, в другом государстве, в котором нет дела до давным-давно исчезнувшего княжества русичей. А мы готовы указать вам этот путь. Причем вполне зримый.
— Хотелось бы, чтобы так оно и случилось.
— Считайте, что уже случилось. Выстраивая свои далеко идущие планы, король Владислав подумал, что, если уж дело дойдет до настоящей войны с Турцией, ваш корпус мог бы огнем и мечом пройтись по турецким гарнизонам в Молдавии и, соединившись с войсками молдавского и валашского господарей, очистить от осман берега Прута и правый берег устья Дуная. Обратившись при этом за военной помощью к польскому королю. Разве вы, князь, не имеете права просить помощи у поляков, братьев-славян?
— Теперь кое-что проясняется, — оживился Гяур. — Во всяком случае, просматривается хоть какое-то продвижение к заветной цели старейшин нашего племени.
— Вот видите! — радостно и облегченно улыбнулся Коронный Карлик. — Я не привык темнить. В конце концов мы не дипломаты и нам нечего хитрить друг перед другом.
35
Они выпили за счастливую звезду, которая уберегла их от судьбы дипломатов. А также за рыцарство, за победу над врагами славянского мира, за мудрость польского короля и всех прочих королей мира сего.
— Кстати, о короле, — вдруг сузились глаза Коронного Карлика. — К государыне нашей Марии Гонзаге вы можете относиться с высоты мужчины, покорявшего сердца прекрасных парижанок, но в конце концов женившегося на графине Ольбрыхской и теперь владеющего несколькими имениями и замками в Польше и Франции.
«А ведь к этой встрече со мной он, судя по всему, готовился основательно, — с облегчением отметил Гяур. — Души из своих агентов вымотал, перед тем как предстать передо мной».
— К королеве я всегда относился с должным уважением, — вежливо склонил он голову.
— Но вы должны знать, что уже сейчас создается некая оппозиция королеве, которая готова будет поставить на вас как на претендента на польскую корону. Кстати, польские традиции это допускают. Стефан Баторий, как известно, был трансильванцем, или, точнее, венгром. Словом, крови там было намешано много. Поэтому вы вполне можете претендовать на польскую корону, выставив свою кандидатуру на обсуждение в сейме.
— Я — в роли претендента на польский трон? Для меня это совершеннейшая новость. Сама мысль об этом пока что кажется мне странной. Что это за партия, что за оппозиция такая, что она готова поставить на мою корону? Кто в нее входит и почему я узнаю о ней последним?
— Она… пока еще только формируется. Но обещает быть довольно мощной. И король уже знает о ней.
— Странная история. Что же он попытается предпринять?
Коронный Карлик поднялся из-за стола, прошелся по комнате, вынул из ножен висевшую на стене саблю — с дорогим, украшенным алмазами эфесом — и внимательно осмотрел ее.
— Вам хорошо известно, что король смертельно болен.
— В дворянских кругах Речи Посполитой эта скорбная новость обсуждается довольно бурно.
— Отсюда — и все дальнейшие выводы. Пока король жив, он, конечно, может убрать всех ныне здравствующих претендентов. Но судьба короны в любом случае будет решаться уже после его смерти. Или же в дни, когда уже никто всерьез не станет воспринимать его как особу коронованную. Поэтому королю хочется, чтобы корона досталась одному из его братьев. Это естественно. Традиции рода, знаете ли, династическая преемственность, которая всегда предполагает соответствующие почести предшественникам… Что в этом непонятного? Иное дело, что у Владислава IV возникли сейчас иные, более земные заботы.
— Я слышал, будто некий пророк предсказал ему скорую смерть…
— Покажите мне предсказателя, который отказал бы себе в таком удовольствии. По-моему, в душе король не верит его предсказаниям, тем не менее готовится к роковому исходу.
— Если судить по планам, которые он вынашивает, то вы правы.
— Обсуждением его планов мы как раз и завершим нашу встречу. — Вернулся Коронный Карлик на свое место за столом. Он долго рассматривал на свет содержимое кубка, словно пытался выяснить, не отравлен ли напиток, понемногу отпивал его, кряхтел и вздыхал…
— Как вы уже заметили, я обязан был подготовить вас к нескольким вариантам исхода вашей судьбы, господин генерал. Но главное, ради чего я прибыл сюда, пока что осталось невысказанным.
— Вы снова и снова поражаете мое воображение, господин Вуйцеховский, — иронично прищурил глаза князь.
— Я всего лишь никому не ведомый, никем не замечаемый в Варшаве тайный советник, по прозвищу Коронный Карлик. Вы должны исходить только из этого. Но и гетман Хмельницкий — всего лишь жалкий интриган, поднявший восстание не как рыцарь, который решил пожертвовать своей жизнью за народ, а как провокатор, посланный королем в Украину, чтобы он собрал вокруг себя всех ненавидящих и польскую корону, и самих поляков. Знаете, существует такой древний, как придворные заговоры, способ: заслать к врагам яростного противника правителя, который бы своей ненавистью мгновенно выявил и собрал вокруг себя всех его врагов — явных и доселе тайных. Вот они! Громи их! Истребляй так, чтобы и через двадцать лет невзлюбивший тебя содрогался от ужаса.
— Но теперь ход восстания определяет уже не только Хмельницкий. Его полковники организовывали свои отряды, целые полки, не за приданое королевы.
— Но за приданое все той же королевы Хмельницкий вооружает их. Впрочем, суть не в этом. Вы очень тонко подметили, что характер восстания определяет теперь не только Хмельницкий. Мало того, у самого обласканного королем полковника реестра тоже начали проявляться все признаки коронной болезни. Он, видите ли, уже заполучил гетманскую булаву, он уже разгромил значительную часть войска основного соперника короля — главнокомандующего войсками графа Потоцкого. Еще две-три такие победы, и он позволит себе свысока смотреть на короля. Так вот, время покажет, как будут складываться обстоятельства. Но королева внимательно следит за всем, что происходит сейчас в Украине.
— Вы сказали, что следит именно королева, а не король?
Коронный Карлик устало взглянул на Гяура как на поднадоевшего собеседника и с той же усталостью подтвердил.
— Да, я сказал «королева»… А также люди, которые стоят за ней. Ну, еще тот претендент, что, по воле Марии Гонзаги, осчастливит своей головой польскую корону, которая, по существу, будет оставаться на голове нынешней королевы…
— Продолжайте, продолжайте, — взбодрил Вуйцеховского генерал. — Самое время полностью раскрывать карты.
— Не исключено, что вам, князь, прославленному воину, герою Франции, придется стать одним из полковников — уж извините, генеральского чина в казачестве не существует — армии Хмельницкого. Да-да, не удивляйтесь, может сложиться и такая ситуация. Мы же, со своей стороны, постараемся сделать все возможное, чтобы под вашим крылом собиралось как можно больше верных нам людей. В том числе и часть тех казаков, что вскоре вернутся из Франции. После чего вдруг окажется, что Хмельницкий не такой уж великий стратег и вождь. И вообще может ли оставаться гетманом человек, продавшийся королю — к тому времени уже покойному — и создававший повстанческую казачью армию на приданое королевы? Словом, у нас появится сто способов убрать его, расчистив, таким образом, путь к гетманской булаве — вначале всего лишь к гетманской булаве — для вас, господин генерал. Потомка Рюриковичей.
— И вы явились сюда, чтобы предлагать мне эту гнусность? — побагровел князь. — Вы осмелились явиться сюда — медленно поднимался он из-за стола.
— Успокойтесь, князь, я еще не договорил, — хладнокровно осадил его Коронный Карлик. — Что вас так поразило? — спросил он, когда Гяур опять сел и немного успокоился. — Что король меняет командующего, желая поставить на его место более молодого, верного ему? Как же вы собираетесь стать государственным мужем, если такое обыденное решение вызывает у вас приступы гнева? Вы, конечно, можете крушить кулаками этот стол. Хвататься за саблю. Угрожать мне. Найдется ли в Варшаве хотя бы один человек, который не осмелился бы угрожать мне?
— Меньше всего меня интересует сейчас ваша персона, — незло огрызнулся князь.
— В таком случае нужно просто взять и спокойно поразмыслить, что вокруг вас происходит. Хмельницкий проявил достаточно непорядочности для того, чтобы ему приказали: «К ноге!» и отвели то место в королевстве, которое он заслуживает. Вы же заслуживаете другой участи — того, чтобы стать во главе армии. Вспомните хотя бы молодого полководца принца де Конде.
— Я хорошо знаком с принцем де Конде. Как, впрочем, и с кардиналом Мазарини. И вообще постарайтесь обходиться без примеров, — проворчал Гяур.
— Мне тоже показалось, что с принцем де Конде вы по-особому дружны, — не обращал Вуйцеховский внимания на реакцию Гяура. — Поймите, это немаловажно. Речь ведь идет о Франции. Так вот, получив под свое командование целую армию — украинскую, казачью армию, армию русичей… Разве станете вы после этого долго решать: идти вам на Дунай или снова повременить? Сколько казачьих атаманов и гетманов штурмовали турецкие крепости по Дунаю, не имея и десятой части тех войск, которые будете иметь вы! Не имея поддержки польского короля. Его войск, его артиллерии. Разве это не путь к той цели, которую вы избрали, заметьте, не по моему совету, и которая стала целью всей вашей жизни? Подумайте, господин генерал, подумайте…
36
«Прусские драгуны» полковника Кричевского расположились на степной возвышенности, окаймленной небольшим кустарником и кленовым редколесьем. Одни уже крепко спали в наспех расставленных шатрах, другие вполголоса балагурили у костров, третьи блаженствовали в вытянутых на берег челнах, все еще покачиваясь во сне на весенней днепровской волне.
В течение того времени, когда реестровики разбивали лагерь, полковник Ганжа со своей сотней таился в ближайшем леске, стараясь не выдавать себя. Впрочем, один раз он все-таки выдал себя, завязав переговоры с разъездом драгун. Но эти люди знали, что их полковник, втайне от Барабаша, отправился к Хмельницкому, поэтому выдавать повстанцев не собирались.
Полковнику не терпелось немедленно ринуться к реестровикам и попытаться склонить их на сторону восставших. Но он понимал, что перейти на сторону его сотни полк решится только в том случае, когда будет уверен, что ее командир уже договорился об условиях объединения с Хмельницким.
— Что-то вы спешите, не поспешая, полковники-атаманы. С чего бы это, — грубовато поинтересовался он, дождавшись наконец появления гетмана и Кричевского. — Нужно сразу же идти в лагерь, пока драгуны не уснули так, что потом придется поднимать их орудиями.
Хмельницкий и Кричевский переглянулись, мысленно решая, кому из них идти и с чего начинать.
— Два твоих разъезда, Кричевский, уже в моей сотне, — молвил гетман, — так что не обессудь. Понимаю, что путь к твоему лагерю открыт, однако не хотелось бы нападать сейчас на своих, на казаков, да к тому же — сонных.
— Неправедное это дело — когда казак рубит казака, — признал полковник реестра.
— Наверное, я сам войду в лагерь и поговорю с твоими «прусскими драгунами», — молвил Хмельницкий.
— Слишком уж рискованно. Рядом — офицеры Барабаша и верная ему охранная сотня, — возразил Кричевский. — К тому же неизвестно, как поведет себя часть моего полка. Не будем забывать, что в нем пять прусских офицеров и еще сорок настоящих прусских драгун, которым переходить к повстанцам не резон, не в их это правилах. Эти всегда верны тому, кто их нанимал, и служат тому, кто платит.
— Все наемничество на этом постулате держится, — признал гетман.
— Это мои воины, и говорить с ними следует мне. Главное, что ты, гетман, здесь, и словом чести гарантируешь, что повстанцы не станут мстить им.
— Ты тоже не торопись, Кричевский, — осадил его Ганжа. — Оратор из тебя, как из меня римский император. А в таких случаях говорить следует пергаментно… Вы осторожно приближайтесь к лагерю, а говорить с драгунами стану я, Ганжа. Эй, Савур, ангел смерти, где ты там?!
— Здесь, полковник, — отделился сотник от группы офицеров, следовавших за гетманом.
— Идешь со мной. Возле тебя, ангела смерти, мне как-то спокойнее. Не спеша двигайся к лагерю, гетман. Пока придешь, он уже будет нашим. За мной, воинство Христа и Сечи!
«А в-от и клич твоей армии, — решил Хмельницкий, мысленно повторив: «За мной, воинство Христа и Сечи!». — Сказано-то как — и по-воински, и по-христиански». В лагере драгун нападения не ожидали, а всадников, что появились поблизости, у догоравших, погружающихся в полуночную дрему костров, приняли за свой разъезд.
— Слушайте меня, казаки реестра! — резко осадил своего скакуна полковник как раз посреди лагеря. — Я — полковник Ганжа! Слыхали о таком?! Полковник казачьей армии Хмельницкого, воины Христа и Сечи! Кто хочет сойтись со мной на сабли, сходитесь, кто хочет слушать — слушайте.
Из шатров драгуны выбирались с такой неуклюжей поспешностью, что рушили сами шатры. Несколько драгун старались поближе пробраться к невесть откуда взявшемуся полковнику повстанцев, но при этом волочили за собой лодку, очевидно, по привычке, как обычно вели оседланных коней.
Полусонные и полупьяные, кричевцы, однако, вовремя заметили, что лагерь уже оцеплен какими-то всадниками, а южный склон возвышенности разгорается топотом копыт еще одного большого отряда.
— Так есть среди вас воины, верные вере православной, казачеству нашему и народу украинскому, или таковых уже нет?!
— Есть! — взревело с полсотни глоток, эхом голосов перекатываясь через небольшую долину, за которой стоял основной лагерь гетмана Барабаша.
— А коли есть, то за кого воевать будем?! — гарцевал скакун Ганжи между двумя кострами. — За короля, который платит вам за то, чтобы вы кровь свою собственную, и нашу, казачью, за Польшу проливали? Или за Украину, которая не способна заплатить вам ничем, кроме вечной сыновней славы, добытой вашими же саблями?!
— За Украину!
— Не станем воевать против восставших!
— Слава Украине!
— Остановитесь, предатели! — ворвался в водоворот солдатских чувств чей-то властный офицерский голос. — Всего несколько дней назад вы заново приняли присягу на верность польскому королю! — узнавали драгуны голос гетмана реестрового казачества Барабаша, уже спешившего к ним в окружении своей охранной сотни и прусских наемников.
— Да, они присягали, Барабаш! — привстал в стременах Ганжа. — Но тому королю, который сам присягал на верность народу, клянясь, что будет охранять свободу украинских людей, оберегать степные границы Украины от басурман! Так неужто вы считаете, что он свою клятву сдержал?!
— Нет, не сдержал! — прозвучало в ответ после небольшой заминки.
— И сдерживать не собирался!
— В таком случае слушайте меня, драгуны! Ваш полковник Кричевский приближается сюда вместе с самим гетманом Хмельницким. Польское войско Стефана Потоцкого, которому вы спешили на помощь, давно окружено казачьей армией и утром будет разбито. Полковник Кривонос так держит ляхов взаперти, что им уже не вырваться.
Одна пуля сорвала с Ганжи овечью шапку, другая расколола ствол не «дошедшей» до берега молодой ивы. Но именно эти выстрелы, прогремевшие со стороны свиты гетмана Барабаша, окончательно вывели драгун из состояния полуночной дремы и вынудили взяться за оружие.
Часть прусских драгун метнулась в степь, но была перехвачена конными казаками Ганжи; часть — к лодкам, но реестровики помешали ей стащить лодки на воду и в короткой схватке изрубили всех наемников.
Поняв, что это уже не просто недовольство, а настоящий бунт, и что лагерь полковника Кричевского оцеплен казаками Хмельницкого, полковник Барабаш с остатками свиты тоже поспешил назад, к своим челнам. Но путь к реке преградил отряд украинских драгун во главе с сотником Джалалией.
— Уж не скрыться ли ты собрался, гетман?! — прибегнул сотник к элементарной хитрости. — А что делать нам? У восставших конница, а мы все еще пешие.
— Подтягивайте сюда лодки! — поддержали его верные Барабашу офицеры, не разобравшись, в чем дело. — Становитесь между ними! Нужно создать лагерь.
— Казаков немного!
— С нами прусские наемники! Они остались верными королю!
Пытаясь стянуть лодки в полукруг, который упирался в пологий болотистый берег, Барабаш еще не знал главного: что Джалалия всего лишь выигрывает время. Он и преданные ему казаки уже сделали свой выбор и теперь ждут подхода взбунтовавшихся драгун Кричевского.
Прозрение к нему пришло лишь тогда, когда на окраинах его ночного лагеря появились десятки вооруженных всадников, сразу же окруживших все расставленные по берегу шатры, а по берегу словно вышедшая из реки волна покатились возгласы:
— Конница Хмельницкого!
— Прибыл сам гетман!
— Хмельницкий здесь, он будет говорить с нами!
— Кому обрадовались, идиоты?! — пытался сбить эту волну Барабаш, но его уже никто не слушал.
Мало того, он видел, как из предрассветной, освещенной угасающей луной синевы выползают челны, в которых, как потом оказалось, сидели драгуны Кричевского, настроенные на то, чтобы не дать ему возможности отойти от берега. И как под звон клинков, доносившийся из лагеря наемников, свита его начала подозрительно быстро редеть.
С несколькими своими офицерами и ординарцами Барабаш все же сумел пробиться к воде и даже затащить один из крупных челнов на мелководье, но тотчас же был вновь блокирован забредшими в реку драгунами Джалалии.
— Прекратите бой! Я сдаюсь! — крикнул он, поняв, что число его сподвижников дошло до тех двенадцати растерянных воинов, что все еще жались к бортам лодки, на корме которой он стоял. — Где Хмельницкий?! Я готов вступить с ним в переговоры!
— А с нами вступать в переговоры не желаешь?! — язвительно поинтересовался Джалалия.
— С тобой, предатель, нет! — мужественно ответил Барабаш, зная свирепую лють этого татарина-выкреста. Рослый, костлявый, опутанный толстыми набрякшими венами словно почерневшими канатами, Джалалия одним видом своим наводил ужас не только на врагов, но и на казаков собственной сотни. Храбрость этого азиата уступала только его коварству и жестокости. Но что поделаешь, если именно эти качества больше всего и ценились казаками в бою. — Где Хмельницкий? Я желаю говорить с ним как гетман с гетманом!
И Хмельницкий действительно появился. В окружении целой сотни конных казаков и пеших драгун. Без боя, одной массой своего отряда он оттеснил уцелевших наемников к мысу, у которого все еще на что-то надеялся несостоявшийся гетман, войсковой есаул реестрового казачьего войска [21]. Однако приближаться к Барабашу и вступать с ним в переговоры командующий восставших не желал. И не только из-за пренебрежительного высокомерия, которое по отношению к основному своему сопернику за булаву — Б? арабашу — всегда и везде проявлялось у него с убийственной откровенностью.
Среди всех, кто находился на этом клочке берега, возможно, только Хмельницкий понимал, что с гибелью Барабаша и присоединением его войска к армии восставших решается не только участь ночной схватки у Каменного Затона и не только успех сражения на Желтых Водах. В У? краине все еще оставались десятки тысяч казаков реестра. Многие из них находились сейчас в лагере коронного гетмана Потоцкого. Многие оставались в Чигиринском, Черкасском и прочих окрестных гарнизонах. И очень важно, принципиально важно было, чтобы сотни его эмиссаров, маскировавшихся под нищих, бандуристов, чумаков, которых вождь восставших намеревался разослать сразу же после этой битвы во все уголки Украины, разнесли важную для судьбы этой земли весть: казаки реестра восстали против своего гетмана Барабаша, убили его и присоединились к армии Богдана Хмельницкого, армии сечевиков. А значит, произошло то единение извечных противников — казаков-запорожцев и казаков реестра, — которого так опасались поляки.
Хмельницкий остановился на небольшом пригорке, в каких-нибудь пятидесяти шагах от лодки Барабаша. Он слышал его призывы к переговорам, но молча смотрел вдаль, туда, где за левым берегом Днепра, далеко на востоке, медленно загоралась несмелая весенняя заря. Она напоминала ему зарево из костров огромного военного лагеря. Пройдет еще несколько минут, все пространство по ту сторону реки огласят звуки боевых труб, и степь наполнится всеразрушающим гулом копыт: воздух окажется сотканным из клубов пыли, воинственных криков и мерцания сотен тысяч клинков. Мир содрогнется, узнав о невиданной ранее могучей армии, о никогда ранее неслыханном упорстве, с которым она сражается за свободу своей земли и своего народа. И что такое для командующего этой непобедимой армией призывы какого-то предателя, судьба которого уже, по существу, решена?
Гетман видел, как все ближе подступали к лодке Барабаша украинские драгуны. Как, оглядываясь на него и не зная, что он решил — казнить или помиловать своего соперника, обвиняли гетмана реестровиков в самодурстве, жестокости и в услужении католикам. Да мало ли какие обвинения можно предъявить человеку, который уже бросил за борт своего смертного «челна» оружие и теперь готовился пересесть на другой челн, способный переправить его на ту сторону реки жизни и смерти.
Барабаш все еще пытался взывать к совести и человеколюбию своих казаков-драгун. Он увещевал их и обращался со словами покаяния к Хмельницкому. И никто не решался прервать его мольбы и покаяния одним-единственным ударом сабли или выстрелом, пока к лодке не пробился сотник, татарин по происхождению, Джалалия.
Растолкав взбунтовавшихся драгун и верных гетману офицеров, он хищно оскалился, проткнул его копьем и, почти приподняв над собой, с воинственным, победным рыком ордынца швырнул за борт.
Увидев, что гетман уже погиб, драгуны набросились на офицеров, все еще остававшихся у его челна, и на тех, что сбились в кучу у штабного шатра, превращая схватку уже не в бой, а в кровавую резню. И лишь когда они оттеснили к небольшой косе отряд прусских наемников, которых до поры, возможно, только из солдатской солидарности, не трогали, Хмельницкий оторвал взгляд от явившегося ему видения на той стороне просыпающейся реки и властным окриком остановил драгун:
— Командирам наемников подойти ко мне! — приказал он, не обращая внимания на истребление офицеров-реестровиков.
К нему подвели прусского лейтенанта, немного владевшего польским.
— Лейтенант Рунштадт, — представился он, остановившись в двух шагах от стремени гетмана. — Я последний из оставшихся в живых офицеров прусских рейтар.
— Оглянитесь на своих солдат, лейтенант.
Рунштадт молча оглянулся и несколько секунд смотрел на сливающиеся в сумраке две стоявшие друг против друга людские массы. Отсюда, с высоты небольшого холма, он еще отчетливее видел всю безнадежность положения своих соплеменников.
— Вы правы, — признал он, продолжая свои горькие размышления, — положение безнадежное.
— Мои казаки даже не станут сражаться с ними на саблях, а попросту расстреляют из пистолетов.
— Так оно и будет, — покорно согласился Рунштадт.
— Я такой же подданный польского короля, как и Барабаш, как коронный гетман Потоцкий. Я — полковник реестрового казачества, и мои воины восстали против местных польских магнатов по тайной воле польского короля.
— Это может оказаться правдой. Нечто подобное я слышал от королевского комиссара господина Вуйцеховского, который встречался с офицерами нашего полка.
— Коронного Карлика, — поддержал его Хмельницкий. — Так вот, он говорил правду. И говорил от имени короля.
— Не смею сомневаться.
— Сейчас я отведу казаков, а вы, лейтенант, обратитесь к своим драгунам. Они должны понять, что продолжают служить польскому королю. Именно королю, а не интригующей против Его Величества польской шляхте. Вы же, в чине капитана, назначаетесь их командиром и поступаете под командование полковника Ганжи, — указал острием клинка на вросшую в седло мощную коренастую фигуру победителя этого странного ночного сражения. — За службу вы будете получать вознаграждение. Поэтому жду ответа: вы согласны служить под нашими знаменами?
— Как прикажете, господин гетман. Мы будем служить, клянусь честью прусского офицера.
— Те же, кто не захочет служить в моей армии, будут казнены, но без пыток и мучений. Они примут смерть, как надлежит принимать ее воинам.
— Это справедливо, клянусь честью прусского офицера.
— Ганжа, отведи своих рубак! А вы, капитан, идите к драгунам. И не думайте, что у вас осталось много времени на их увещевание!
— Они пойдут туда, куда я прикажу, — заверил его Рунштадт. — Клянусь честью прусского офицера.
* * *
Уже взошло солнце, когда на возвышенности, прилегающей к окруженному казаками польскому лагерю, появились посаженные на татарских лошадок рослые, вооруженные ружьями и длинными саблями, закованные в кирасы прусские драгуны. Это были те, настоящие прусские драгуны, которые прибыли на Украину как наемники и на мужество которых поляки возлагали столько надежд.
— Уполномочен уведомить генерала Стефана Потоцкого, что отныне прусские драгуны служат в армии генерала Хмельницкого! — прокричал Рунштадт своим зычным басом. И несколько боевых труб подтвердили его слова мощным иерихонским ревом. — Только из уважения к генералу Потоцкому я могу сообщить, что генерал Барабаш, а также все его офицеры погибли в ночном бою! Остальные украинские драгуны перешли на сторону генерала Хмельницкого! — очертил он драгунским клинком пространство возвышенности, на которую уже восходили полк пеших и конных драгун полковника Кричевского, пеший отряд реестровиков, а также сотни под командованием Джалалии, Ганжи и Савура.
Тысячи рассвирепевших глоток породили над польским лагерем стон гнева и отчаяния. Это были стон и проклятия людей, отчаявшихся получить последнее подкрепление, а значит, осознавших свою обреченность.
Кто-то их этого лагеря стрелял в капитана Рунштадта, кто-то уже стрелял себе в висок, еще кто-то пробовал прорваться через ограждение, чтобы вступить в схватку с предателями. И в этом шуме намертво развеивались слова молодого полковника Стефана Потоцкого, чья воинская звезда закатывалась, так и не взойдя. А ведь он уже видел себя польским принцем де Конде, эдаким Александром Македонским Речи Посполитой.
— Гетман Хмельницкий дает вам два часа на размышление! — Появился у самого рва полковник Ганжа. — Два часа вам на то, чтобы выйти из лагеря, сложить оружие и отправиться туда, откуда вы пришли! При этом мы даже возьмем на себя все тяготы по охране ваших непомерно разбухших обозов! Если же не выйдете, с одной стороны на вас ударят прусские рейтары, с другой — двадцатитысячная татарская орда Ислам-Гирея. Это я, полковник Ганжа, пока что говорю словами; Хмельницкий будет говорить с вами ядрами и клинками!
37
Командный пункт Хмельницкого оказался в старой, но уже основательно подремонтированной рыбацкой хижине, вросшей в небольшой кособокий холм, сереющий на самом берегу речушки. Большую часть дня командующий проводил в шатре, поставленном на возвышенности, в миле от хижины, откуда неплохо просматривался польский лагерь, но к вечеру он обязательно возвращался сюда, к бревенчатому домику на склоне косогора; к остовам старых лодок, покоящихся между двумя небольшими полуразрушенными лабазами; к шаткому мостику, достигавшему почти середины речки.
Иногда гетману казалось, что все, что происходит там, за грядой холмов, в украинском и польском лагерях, пребывает где-то за пределами реальности. К ночи он избавлялся от мыслей о предстоящем сражении, как от кошмарного наваждения. В реальности оставались только эта хижина с остатками навешанных возле нее рыбацких сетей; пропахшие рыбой лабазы, старые лодки, две из которых он уже приказал подлатать и законопатить… Были минуты, когда ему вообще не хотелось возвращаться в находящийся в каких-нибудь двухстах метрах от хижины казачий лагерь. К чему? Отослать к дьяволу адъютантов, распустить личную охрану, съездить в ближайшее местечко или деревню да привезти оттуда моложавую вдову…
Когда-то хижина и два других строения, от которых остались только пепелища, составляли казачий зимник, один из тех, в который состарившиеся казаки отправлялись перезимовать. Гетман знал, что в этом зимнике все лето трудилась небольшая рыбацкая артель, поставлявшая рыбу в три ближайших степных зимника, а иногда и в походные казачьи лагеря. Самое время возродить этот хутор, который так и вошел бы в историю края как хутор отрекшегося от булавы гетмана Хмельницкого.
— Господин гетман, этой ночью из польского лагеря вырвалось пятнадцать прусских драгун и три бомбардира-саксонца, — нарушил его одиночество капитан Рунштадт. — Еще двое драгун схвачены польским разъездом и, очевидно, будут казнены.
— Поговорите с каждым из перебежчиков, капитан. Не почувствуете ли, что кто-либо из них подослан.
— Это прусские солдаты, господин генерал. Они не станут лгать своему офицеру.
— Мне бы такую уверенность в каждом из своих солдат. И все же, присмотритесь, поговорите. И еще… Пусть сегодня они покажутся перед валами польского лагеря, — молвил Хмельницкий, удивившись наивной доверчивости Рунштадта. — Наемники, остающиеся в лагере, должны видеть, что перебежчиков приняли не как пленных.
— Значит, и сегодня мы не станем атаковать польские позиции?
— Вот с сего дня как раз и начнем атаковать их не атакуя.
— Продолжается ваша странная славянская война, — понимающе кивнул Рунштадт. — Все были убеждены, что вы двинете свои полки сразу же, как только в польском лагере начнется паника по поводу гибели корпуса генерала Барабаша. Но оказалось, что даже ваши полковники плоховато знают вас.
Хмельницкий в последний раз ностальгически окинул взглядом речку, лабазы, остатки запутавшихся в ветвях акации сетей и приказал адъютанту подвести коней для себя и капитана Рунштадта.
— Видите ли, капитан, стоит ли удивляться моим полковникам, если я и сам еще плохо знаю себя, — простодушно признался он, садясь в седло. — Как оказалось, в роли полководца мне приходится выступать впервые.
— Важное открытие, — согласился Рунштадт, ожидая увидеть на лице командующего хотя бы тень иронии. Но оно продолжало оставаться невозмутимо застывшим, словно принадлежало человеку, вообще неспособному на проявление каких-либо чувств.
Впрочем, невозмутимость командующего, его удивительное самообладание и способность гасить в себе какие бы то ни было эмоции были замечены не только Рунштадтом. Его умение внешне никак не реагировать на слова неугодных ему собеседников и происходящие вокруг события нередко ставило окружение Хмельницкого в тупик, порождало легенды о его инквизиторской бесчувственности и жестокости.
«А ведь этот человек и впрямь пока еще не знает самого себя, — мысленно признал капитан, направляясь к позициям казаков, окружавших польский лагерь. — Хотя настоящий полководец должен таить в себе загадку не только для врагов, но и для собственных генералов».
Поднявшись на «командный холм» у штабного шатра, Хмельницкий долго осматривал в подзорную трубу позиции своих войск и огромный подковообразный лагерь Стефана Потоцкого. Пока что он оставался доволен: поляки считали, что время работает на них; все еще рассчитывали, что гонец уже прибыл в ставку коронного гетмана Николая Потоцкого и тот спешит к ним на выручку.
Знали бы они, что единственный гонец, посланный генералом Стефаном Потоцким, был перехвачен казаками в тот же день, когда они учинили разгром корпуса Барабаша. И на допросе этот гонец подтвердил то, о чем Хмельницкий давно догадывался, что в обозе поляков слишком мало продовольствия. Он был завален чем угодно: дорогой посудой, перинами для господ офицеров, бочками с вином, награбленными по украинским местечкам серебряными подсвечниками и позолоченными кубками, но только не едой. Эти вечные, порождаемые неистребимым аристократическим гонором и самолюбивыми амбициями польская самоуверенность и беспечность… Сколько раз ему, как польскому офицеру, приходилось страдать от них, возмущаясь и проклиная. Но, как оказалось, никакие поражения, никакие трагедии не способны изменить барские замашки польского офицерства.
Вот и сейчас, задумываясь над тем, догадается ли коронный гетман Потоцкий двинуть свои войска на юг в поисках корпуса сына, Хмельницкий сказал себе: «Вряд ли. Если бы польский маршал верно оценивал соотношение сил, то сразу же двинул бы против меня все свои войска. И конечно же разгромил бы, развеял повстанцев. Но опытный командующий отсиживается в Черкассах, посылая в поход своего юного отпрыска, самонадеянно умудрившегося уже в первые дни отойти от берега Днепра в степь, потеряв всякую связь с полком Барабаша и не имея почти никаких сведений о противнике. Перед сильно укрепленным лагерем казаков генерал Стефан предстал с таким удивлением, словно перед снизошедшей Богородицей».
— Чего ждем, гетман?! Пора взять этот лагерь и идти дальше! — галопировал по склону холма Максим Кривонос, объявленный вчера «первым полковником» освободительной армии, правой рукой гетмана. Казаки реестра, успевшие привыкнуть к европейским чинам, даже стали называть его после этого генералом. — Если упустим время, коронный гетман получит подкрепление из Польши и соберет дворянское ополчение со всей Украины.
— Лагерь-то мы можем взять хоть сегодня. Но только идти на ставку коронного нам уже будет не с кем, — холодно процедил Хмельницкий, удивляясь, что Кривонос так и не понял его замысла. — Нам не лагерь нужен, генерал. Нам нужна победа. Первая, решительная, такая, чтобы о ней узнали в Черкассах, Каменце, Варшаве… Но после которой мы остались бы не только со славой, но и с армией.
Хмельницкий не хуже польских генералов помнил, что никогда раньше ни запорожские казаки, ни отряды повстанцев польские лагеря первыми не атаковали. Встретившись с коронным войском, они наспех создавали табор из повозок и пытались устоять. Во что бы то ни стало — устоять. Против мощной артиллерии, против нескольких тысяч закованных в сталь крылатых гусар, против подкрепленных клиньями могучих наемников польских пехотинцев-кирасир. Но устоять, как правило, не удавалось.
— Прибыло полторы сотни повстанцев из-под Умани! — еще издали доложил Ганжа, появляясь из леска во главе десятка своих сорвиголов-телохранителей. Половина из них — без коней и без оружия.
— Быстро вооружи и проведи их мимо польского лагеря, при этом устрой бурную встречу пополнения. Но его должно быть как минимум три сотни. И все на конях. Ты понял меня?
— Понял, гетман! — заржал Ганжа, заглушив ржание собственного коня.
О, этот любил поиграть на нервах и поляков, и своих. Все эти дни Ганжа так и искал смерти, чуть ли не каждые два часа появляясь со своими телохранителями у польского лагеря и вызывая польских офицеров на поединок. Но полякам сейчас не до поединков. Лагерь оцеплен. Казаки держатся на таком расстоянии, что палить из орудий бессмысленно. Делать крупные вылазки — тем более. Казаки и татары только и ждут, когда можно будет с тыла ворваться в плохо защищенный лагерь.
— Ты, Кривонос, следи за тем, чтобы поляки не знали ни минуты передышки. Терзай лагерь то на одном, то на другом участке. Атаковать вроде бы готовится весь твой полк, а к валам подходит всего лишь сотня, да и то рассредоточенно. Пусть поляки выползают на валы, пусть тратят ядра и заряды. И ни минуты покоя по ночам. Будить ядрами и криками «Алла! Алла!», имитируя атаку татарской конницы. Они это «любят».
— Еще и по ночам?! — возмутился Кривонос. — Так сколько же ночей нам придется куковать здесь? Прикажи сейчас — и через два часа я ворвусь в лагерь. Драгуны капитана поддержат меня, — кивнул в сторону Рунштадта.
— Драгуны поддержат гетмана, — мрачно охладил его умудренный интригами капитан.
— В лагере ты действительно побываешь, — неожиданно молвил Хмельницкий, заставив обоих удивленно уставиться на него. — Бери с собой полковника Крису, великого нашего дипломата и знатока придворных этикетов, и отправляйся на переговоры к Потоцкому [22].
От возмущения Кривонос привстал в стременах и почему-то потянулся к эфесу сабли. Он терпеть не мог дипломатии. Какие бы то ни было переговоры с поляками он считал ненужными и унизительными.
— Но они не сдадутся, гетман. — Побагровело его смуглое худощавое лицо. — Они же еще не сошли с ума, чтобы вот так выйти и сдаться. — Нервно засовывал в уголок рта длинный, отвисший ус. При этом на лице его вырисовывалась гримаса такого старания, словно действительно пытался проглотить этот ус.
— А нам и не нужно, чтобы они сдавались.
— Что же тогда?
— Важно, что мы предложили им избежать кровопролития. И чтобы об этом узнали сотни реестровых казаков и украинцев-драгун, которые еще остаются в лагере, узнали в Варшаве. Не мы напали на поляков, сами поляки пришли громить нас. Не войны мы жаждем, а мира, желая при этом служить польскому королю. Заодно поближе присмотрись к устройству их лагеря, определи, с какой стороны к нему лучше подступаться.
Прежде чем подчиниться приказу, Кривонос с тоской и разочарованием взглянул в сторону польского лагеря.
— А ведь там всего лишь полторы тысячи спешенных гусар. А спешенные — они не вояки.
— Спешить-то мы их спешили. Теперь подождем, когда начнут поедать своих лошадей.
38
Открыв глаза, Гяур вдруг увидел перед собой отсвечивающее белизной оголенное женское тело.
Так и не поняв: проснулся он или еще не уснул, князь всмотрелся в приблизившийся к нему изгиб бедра, поднял взгляд на освещенную луной грудь, но рассмотреть лица так и не смог, оно оставалось скрытым в полуночном сумраке.
— Графиня… вы? — несмело, полусонно пробормотал он, мысленно возродив в своем воображении охваченный золотом волос, прекрасный лик Дианы де Ляфер.
Гяур остановился в доме того же торговца, у которого останавливался еще до французского похода, — тот же мезонин, та же скромная комната, та же лестница, ведущая прямо из сада… Воспоминания, которые дарила ему эта далеко не генеральская и не княжеская обитель, были куда дороже комфорта лучших городских гостиниц или тех трех комнат, что готов был отвести ему в своем доме комендант крепости.
— Вы спокойно могли бы назвать меня и княгиней, если бы первой здесь побывала я, а не графиня-француженка. И п? усть кто-нибудь скажет, что мое тело недостойно титулов, полученных цыганкой Властой, на которых гадают сегодня словно на картах обе графини — француженка и полька.
— Ты, что ли, Руфина? — помотал головой, пытаясь избавиться от ночного наваждения.
— Если бы я не пришла к вам, то все равно приснилась бы. И не врите, что во сне брать меня было бы приятнее, чем когда я перед вами, вот так, вся…
Еще не веря ни себе, ни девушке, которая стояла над ним совершенно оголенная, Гяур медленно, с опаской поднял руку и провел пальцами по ее бедру.
— Ну что, убедились? — прошептала Руфина. Не было в ее голосе ни ласки, ни таинственности, а было какое-то отчаянное женское коварство: завладеть мужчиной, во что бы то ни стало, ценой любых соблазнов и унижений — завладеть!
— Но как ты здесь оказалась?
Вместо ответа она присела рядом с Гяуром и, отыскав его губы, впилась в них в поцелуе.
— Но там был Хозар. — С трудом освободился от него Гяур. — Неужели прозевал тебя?
— Не волнуйтесь, князь. Он тоже доволен, поскольку я привела ему Марию, — игриво хихикнула Руфина. — Пока он будет проклинать ее, путаясь в одеждах — об этом я позаботилась, — вы будете проклинать себя, что не затащили глупую, наивную евреечку в свое логово еще до поездки во Францию.
— Об отце ты подумала?
— Ложась с женщиной в постель, вы всегда думаете о ее отце? О его душевном спокойствии?
— Это, когда я ложусь с женщиной, Руфина…
На сей раз она нежно поцеловала уголки губ и потерлась лбом о его подбородок.
— Теперь вы — с девушкой, князь… У меня никого не было. До сих пор я только мечтала о том, первом… Но теперь вдруг сказала себе: если уж все равно кому-то быть первым, пусть будет Гяур, мой князь. Не бойтесь, — улеглась она рядом с генералом, призывно поводя рукой по его груди. — Завтра скандала не будет. Он уже был сегодня, когда мы с сестрой уходили к вам.
— Так отец уже обо всем знает?
— Представляете, в конце концов он сказал; «Пусть уж лучше будет этот благородный генерал, чем тот старый пьяный армянин, в постель к которому ты должна была попасть еще год назад».
— Что за армянин?
— Местный торговец — богатый, наглый и нелюбимый.
— У тебя мудрый отец.
— Он — еврей, князь, а еврей дураком быть не может, если он в самом деле — настоящий еврей. Соединить эти две ипостаси невозможно. Другое дело, что существуют более предприимчивые и удачливые, и менее…
«А ведь всякий нормальный мужик попросту набросился бы на нее, не думая ни о причинах появления здесь этой нежности, ни о последствиях, — упрекнул себя Гяур. — Раньше ты так и поступил бы. Что же сдерживает сейчас?».
Словно бы опасаясь, что сомнения мужчины могут кончиться ее полным поражением, Руфина томно приподнялась, надвигаясь по-змеиному изгибающимся животом, решительно оседлала его и, вцепившись руками в шелковистые волосы, закричала так тоскливо и пронзительно, словно прощалась не только с девичеством своим, но и с самой жизнью.
Даже потом, когда, насладившись самыми греховными ласками, на которые только способна возбужденная инстинктами фантазия, Гяур по-настоящему овладел этой женщиной, он мог поклясться, что ни с кем еще ему не было так хорошо, ни одна женщина не отдавалась ему с такой безумной и безоглядной страстью. Никогда еще ночь его не была пронизана такой энергией самосожжения, какой оказалась эта, лунная, весенняя…
— Скажи, только не надо лгать… — прошептала Руфина. — Ты действительно жалеешь, что первой пришла сюда не я, а графиня де Ляфер?
— В такую ночь невозможно лгать. Она, сама ночь наша, настолько откровенна и неправдоподобна, что уже нет никакого смысла лгать ни тебе, ни самому себе. Честно говорю: жалею.
— Ничего больше не говори мне, хорошо? — Руфина повернула его на спину и легла на него — совершенно расслабленная, до предела обессиленная, но все еще не способная утихомирить свое вздрагивающее тело и свою беснующуюся плоть. — Я запомню только то, что ты жалеешь. И никогда не забуду, что первым у меня был ты, князь Гяур. С той поры, когда я, глупая провинциалка, увидела тебя, это стало для меня греховным наваждением — дождаться! Во что бы то ни стало дождаться тебя. И только с тобой… Только тебе…
* * *
Исчезла Руфина так же незаметно, как и появилась. На какое-то время она затихла на груди у Гяура, и он, уставший от суетного дня и страстной ночи, задремал. Проснулся уже от легкого поскрипывания лестницы.
«Нужно немедленно съезжать из этой обители, — покаянно молвил себе князь. — Очевидно, она и есть то адово место, на котором Сатана испытывает тебя всеми доступными ему грехами…»
Но прошло несколько минут, он закрыл глаза и, подставив лицо первым проблескам рассвета, вдруг понял, что не осознает себя грешным ни перед Всевышним, ни перед теми женщинами, с которыми был до этой ночи. Каждая из них по-своему нежна и по-своему прекрасна. И то, что происходило между ним и женщинами, принадлежит к тем интимным, самым сладостным воспоминаниям, с которыми не страшно будет прощаться в конце жизни.
А еще он подумал, что если бы случилось так, что все эти женщины сошлись бы вместе и предстали перед ним как видения судьбы и грезы еще одной любовной ночи, у него не хватило бы подлости отречься хотя бы от одной из них. Как бы при этом ни относилась к нему каждая из женщин, как бы ни воспринимал его сластолюбие Господь.
39
Заметив Хмельницкого с довольно большой свитой, в польском лагере решили, что его появление и есть начало того сражения, которого все они ждали и боялись.
Однако шло время. Люди из свиты возвращались к выстроенным неподалеку войскам, галопировали перед командующим, о чем-то докладывая. Получив новый приказ, вновь отправлялись то ли к мощному заслону, которым казаки перекрывали доступ полякам к реке, истощая их жаждой; то ли к стоявшей по ту сторону реки артиллерии, неспешно, надоедливо постреливавшей в сторону войска Потоцкого.
И польские офицеры уже начали утрачивать понимание того, что, собственно, намеревается делать Хмельницкий и в чем смысл его появления в какой-нибудь сотне метров от их лагеря. При этом сам гетман все это время удерживал коня на небольшом пятачке на краю возвышенности, и конь этот казался таким же неподвижным, как и его всадник.
— Что бы все это могло значить? — проскрипел зубами Стефан Потоцкий, обращаясь к киевскому воеводе полковнику Чарнецкому [23].
— Нужно помнить, что перед нами — командующий, которого обучали не во французской военной академии, а в иезуитской коллегии, — спокойно ответил тот.
— Не думал, что вы — иезуитоненавистник.
— Готовя своих воспитанников к выживанию в сложном мире, сотканном из интриг, подлых убийств и войн, иезуитские наставники прежде всего воспитывают в них адское многотерпение и сатанинскую невозмутимость. Перекрыв нам доступ к воде, за каждый глоток которой мы вынуждены платить жизнями наших солдат, лишив возможности пополнять провиант, он теперь истощает нас морально.
— Эй, капитан! — развернул Потоцкий коня в сторону стоявшего неподалеку командира саксонских бомбардиров. — Ну-ка, развейте эту свиту залпами из орудий!
— Это ничего не даст, ваша светлость, — усомнился Чарнецкий. — Куда важнее понять, что задумал этот казачий иезуит, почему сегодня он вдруг прибег к параду своего воинства.
— Если наши пушки ничего не дадут, что же тогда, по-вашему, даст?
Чарнецкий молча взглянул на командующего. Этот юный аристократ чем-то напоминал ему эллина — закованный в латы, крепко сбитый темноволосый воин, предпочитавший идти в бой без шлема, поскольку знал, что его кудри служат офицерам таким же ориентиром, как полковой штандарт. А еще — загорелое волевое лицо, на котором каждая линия была нанесена с истинно божеским пониманием мужской красоты, но в котором уже сейчас прочитывалось нечто роковое и недолговечное.
— Только не ядра. Возможно, они и распугают свиту Хмельницкого, но не заставят сойти с пьедестала его самого. И не изменят его намерений.
— Так что же мы должны предпринять? — нервно попытался уточнить Потоцкий.
— У нас остается только один выход, — заговорил доселе молчавший королевский комиссар Шемберг, — оставить весь обоз, налегке неожиданно ударить на заслон, выставленный со стороны леса, и, прорвав его, уходить в степь по правому берегу Днепра. Возможно, коронный гетман уже где-то неподалеку, так что наш маневр окажется очень кстати.
— Если он неподалеку, тогда есть смысл дождаться его в лагере, — возразил полковник Сапега [24],?командовавший небольшим польско-литовским отрядом ополченцев.
— Не слышу вашего ответа, господин Чарнецкий, — настаивал на своем командующий, стараясь не тратить времени на полемику с Шембергом и Сапегой.
— Пока что мы должны учиться вести себя так, как ведет себя Хмельницкий. И напрасно вы считаете, что он готовится к бою. По-моему, наоборот, хочет, чтобы мы привыкли к его появлению перед нашим лагерем и смирились с ним. Он ждет тех самых выстрелов из орудий, без которых не может обойтись наш с вами польский гонор. А после этого приблизится к нам на расстояние пистолетного выстрела, храбро взберется на вал и предложит перемирие. Предложит, сжалившись над нами, с истинно церковным великодушием великого полководца.
Они стояли у самого вала, на возвышенности, на которой, за редутами, находилось пять мощных орудий, готовых разметать любой строй. И не будь рядом Чарнецкого, генерал Потоцкий давно разразился бы несколькими залпами.
— Пальните же, пальните, ваша светлость, — уступил его душевным терзаниям полковник. — Иначе нам еще долго не вывести их гетмана из состояния этой военно-иезуитской пытки.
Саксонцы тотчас же пожертвовали несколькими ядрами, уложенными у позиций по обе стороны от холма, однако на Хмельницкого они не произвели абсолютно никакого впечатления, хотя кто-то из его свиты был убит, кто-то ранен. Зато, как только орудия умолкли, гетман спустился с холма и, сопровождаемый свитой из двадцати офицеров и стольких же недавно перешедших на его сторону украинских драгун, не спеша направился прямо к тому месту, где стояло командование польского корпуса. Потоцкий и Чарнецкий многозначительно переглянулись. Но Потоцкий — растерянной, а Чарнецкий — иронично-победной улыбкой, которой хотел напомнить, сколь удачно ему удалось спрогнозировать поведение казачьего гетмана.
— Разрешите вновь ударить, господин генерал, только теперь более прицельно, — появился рядом с Потоцким капитан бомбардиров.
— Раньше нужно было «прицельно», — зло проворчал тот.
— Для поражения любой цели нужна пристрелка, — объяснил ему артиллерийский офицер. — Мы ее произвели, теперь позвольте ударить залпом.
— Вы же видите, что командующий казаков идет к нам как парламентер, — процедил «польский Македонский». — Или вам такое понятие не знакомо?
Метрах в ста от лагеря Хмельницкий движением руки остановил свою свиту и охрану, а сам еще больше приблизился к валу. Теперь его мог поразить любой поляк, у которого сдали бы нервы или который бы решился выстрелить в гетмана, не имея на то позволения своего командующего. И Потоцкий признал, что нужно обладать истинно иезуитским хладнокровием и верой в свою судьбу, чтобы столь отважно и безоглядно рисковать собой.
— Я вижу перед собой командующего войсками, генерала Стефана Потоцкого? — спросил Хмельницкий по-польски.
— Он перед вами, — ответил Чарнецкий, видя, что с ответом молодой граф Потоцкий не спешит.
— Я уже посылал своих парламентеров. Поскольку их миссия не удалась, теперь, как видите, явился лично. Хочу подтвердить, что не желаю проливать кровь ни польских воинов, ни своих казаков.
— Если вы этого не желаете, — с презрением ответил Потоцкий, — так уведите свою взбунтовавшуюся голытьбу, сложите оружие и заставьте старшин вновь присягнуть на верность королю.
— Вы уверены, что имеете право диктовать условия нашего перемирия? Вы действительно уверены в этом?! В таком случае то ли я совершенно не смыслю в военном деле, то ли вам известно нечто такое, чего не могут знать мои полковники. Постарайтесь убедить меня в этом.
Прежде чем ответить, Потоцкий вопросительно взглянул на Чарнецкого, затем на Сапегу, раздраженно повертел головой, словно пытался унять зубную боль, и только потом ответил:
— Я предлагаю вам и вашему войску сложить оружие, — в голосе его зазвучали металлические нотки. — Причем сделать это немедленно. В присутствии своих офицеров я обещаю, что добьюсь от коронного гетмана и короля, чтобы ни вы, полковник войска реестрового, ни ваши офицеры казнены не были. Это все, что могу обещать.
Ответ показался Хмельницкому слишком резким и неуважительным. Так мог отвечать только полководец, чувствовавший явное превосходство своей армии. Но Стефан Потоцкий не был тем военачальником, который способен привести сейчас армию к подобному превосходству, и гетман прекрасно понимал это. Единственным проявлением его достоинства стало то, что блефует он уверенно.
— То есть я понял, я почти уверен, что вы согласны на переговоры! — предельно вежливо произнес гетман, загнав польских командиров этой своей «уверенностью» в тупик. — Это обнадеживает всех нас! Но поскольку еще никому не удавалось договориться о таком важном деле, стоя по разные стороны артиллерийского вала, будет куда разумнее, если вы пришлете своих офицеров на переговоры. Думаю, мы договоримся быстро.
С минуту Хмельницкий молчаливо ждал ответа, потом развернул коня и не спеша направился в сторону ожидавшей его свиты. Но вскоре вновь остановился.
— Господин гетман, наш парламентер определен! — услышал он голос Чарнецкого. — Я готов вступить с вами в переговоры!
От Хмельницкого не ускользнуло, что полковник вызвался идти на переговоры, не ожидая решения Потоцкого. Но граф не возражал.
— Тогда прошу! Стол в моей ставке уже накрыт!
Приблизившись к Хмельницкому, полковник представился и заявил, что имеет полномочия вести переговоры от имени командующего корпусом графа Стефана Потоцкого.
— Вы храбрый и мудрый человек, полковник, — признал гетман. — Я немного знаю вас, мы встречались в Варшаве, на приеме во дворце Потоцких.
— Да-да, припоминаю. Это произошло сразу же после вашего возвращения из турецкого плена, когда вас произвели в полковники.
— Мне почему-то хотелось, чтобы человеком, с которым выпадет вести эти трудные переговоры, оказались именно вы.
Он не льстил. Усомниться в искренности сказанного было почти невозможно. Перед Чарнецким предстал уставший, преисполненный миролюбия полководец, ясно осознавший всю бессмысленность той бойни, которую они здесь затевают.
— А все шло к тому, что отправиться к вам должен был я. — Они выглядели почти ровесниками, оба немало повоевали, и Чарнецкому казалось, что найти общий язык будет не так уж трудно. — На каких условиях вы готовы снять блокаду нашего лагеря?
— Они будут предельно простыми и абсолютно приемлемыми.
— Такого не бывает.
— Сейчас вы в этом убедитесь.
— Если это произойдет, мы удивим не только всех тех, кто ждет спасения по ту сторону вала, но и всех, кто знаком с историями войн, — все же не поверил ему полковник.
Однако иронии Хмельницкий постарался не заметить. Он многое научился не замечать, обращая при этом внимание на то, о чем говорило поведение человека, снисходящего в разговоре с ним до иронии. Пройдет не более года, и поляки сумеют убедиться, что в этой манере поведения гетмана заключен один из главных постулатов его дипломатического величия.
— Жду ваших условий.
Гетман благодушно взглянул на поднимавшееся к зениту солнце, вздохнул, как может вздыхать только человек, убежденный в том, что лучшая половина дня прожита в исключительно праведных трудах, и произнес:
— Зная, господин полковник, какой голод вы терпите в своем лагере, я проявил бы полное неуважение к вам, не пригласив отобедать вместе со мной и моими полковниками. Во-первых, за столом переговоры пойдут проще, а главное, мои аскеры смогут присутствовать при них и сами формировать условия перемирия, которые им же придется выполнять.
Чарнецкий глотнул запекшуюся слюну и, оглянувшись на томящийся в жажде и голоде лагерь, с благодарностью согласился.
Часть вторая Путь воина
1
Над станами врагов взошла теплая, напоенная степными ароматами ночь, а застолье в огромном штабном шатре Хмельницкого все продолжалось и продолжалось. Все это время Чарнецкий сидел, удрученный обилием пищи и напитков, которое могли затмить лишь учтивость и искренность казачьих полковников. Хмельницкий давно удалился на покой, однако его полководцы продолжали осаждать и услаждать польского парламентера, превращая свой пир среди чумы в не предвиденную никакими святыми писаниями тайную вечерю Иуды.
Чарнецкому все еще казалось, что в конце концов он мог бы подняться и уйти. Он — парламентер, и никто не волен удерживать его в стане врага дольше того, чем он пожелает оставаться в нем. Полковник даже несколько раз порывался сделать это, но затем легко поддавался на уговоры офицеров Хмельницкого, поскольку не представлял себе, как это он — сытый и пьяный — сможет предстать перед командующим, перед всем изголодавшимся лагерем абсолютно ни с чем.
Все еще не охмелевшему до конца аристократу такое возвращение казалось теперь совершенно неприемлемым. А возвращаться действительно нужно было с пустыми руками. За несколько часов сидения и застольных разговоров черт его знает о чем ни Хмельницкий, ни его «первый полковник» Максим Кривонос так ни словом и не обмолвились ни об условиях перемирия, ни об условиях сдачи польскими войсками оружия. И сколько ни пытался Чарнецкий повернуть их беседу в русло надежд и ожиданий своих соплеменников, ему это так и не удалось.
— Господин полковник, — возвышенно оскалился в цыганской улыбке смуглолицый, с огромной золотой серьгой в правом ухе Кривонос. — Наше сегодняшнее застолье показывает, что все мы с честью, по-рыцарски, умеем и воевать и договариваться, придерживаясь при этом своего слова чести. Сохраним же нашу честь, ибо мы ее достойны!
И кто решится не поддержать тост «первого полковника» казачьей повстанческой армии? Кто посмеет не проявить уважение к его чести?
— Господин Чарнецкий, Польша еще узнает о нас, поскольку она имеет право узнать о тех ее сыновьях, которые, восставая против своеволия давно вышедшей из-под власти короля шляхты, до конца остаются верными Его Величеству и польской короне! — трибунно провозглашал полковник Кричевский. Посланник польского командующего был знаком с ним задолго до встречи в степном лагере восставших. Он воспринимал Кричевского как храброго, ведающего цену своему слову и своей сабле человека. — Так знает ли Польша сыновей более достойных? Нет, она достойна знать именно этих.
— Рятуймося, браття-полковныкы горилкою, бо твэрэзиемо! [25] — аллюрно ворвался в мрачные раздумья посла нагарцевавшийся за день у польского лагеря полковник Ганжа. И никакое вино не способно было смыть с его багрового лица оскал хищника, способного скорее погибнуть, чем упустить раненую добычу. — Беда не в том, что мы не вовремя пьем, что запрещает нам казачий обычай, а в том, что не вовремя трезвеем.
— Мудро! — подхватывались казачьи полковники, увлекая за собой Чарнецкого. — За сабельную мудрость полковника Ганжи, величайшего из воинов Дикого поля!
И кто там смеет усомниться в величии самого полковника Ганжи?! Кто осмелится не выпить за его величие?
Чарнецкий не знал, что в то время, когда весь польский лагерь не спал, томясь в погибельном неведении относительно условий перемирия и судьбы своего парламентера, Хмельницкий вершил еще один свой замысел. Он тайно, скрыв это даже от своих полковников и взяв с собой лишь Савура, Урбача и два десятка преданных казаков-телохранителей, перешел реку и устремился к расположенной в нескольких милях вверх по течению ставке мурзы Тугай-бея. Причем визит его был неслучайным. Еще до того, как гетман решился предстать перед польским лагерем, к нему неожиданно явился Урбач.
— Из стана Тугай-бея сообщают, что в окружении перекопского мурзы все более склоняются к тому, чтобы перейти на сторону поляков. Судя по всему, поляки пообещали щедро вознаградить их за это предательство.
Командующий взглянул на своего, недавно назначенного начальником разведки сотника с недоверием и откровенным подозрением. Что-то не то. Не нравился ему этот всевидящий и всезнающий советник. Слишком уж хитрил он даже в тех случаях, когда хитрить было не с руки.
— Я бы еще понял Тугай-бея, если бы он решился перейти на сторону поляков, когда бы окруженными оказались мы, — холодно процедил гетман, восседая на походном кленовом троне своем. — Поэтому выдерну язык каждому, кто попытается сеять вражду между мной и Тугай-беем, мною и крымским ханом.
— Верно мыслишь, командующий, — Урбач оставлял за собой право обращаться к Хмельницкому на «ты», избегая при этом нелюбимого обращения «гетман». Он был одним из тех, кто считал, что в армии повстанцев должны быть введены французские звания. Это сразу же покажет Европе, ее послам, что они имеют дело с армией нового государства, а не с неуправляемой ордой гайдуков. — Но верно и то, что татары часто руководствуются не разумом, а коварством. Тугай-бей отлично понимает, что чем запоздалее придет спасение, тем оно будет дороже. Повернув оружие против тебя, он позволит полякам отступить, но уже без богатых обозов. А, отходя вслед за ними, разграбит все, что только можно будет разграбить. И выступить против него ты не решишься. Боясь гнева хана и своей слабости — не решишься.
— Иногда мне кажется, сотник, что коварство татар ты воспринимаешь через свое собственное.
— Так оно и есть, — с холодным достоинством подтвердил Урбач, не считая необходимым и дальше убеждать командующего.
Хмельницкий понимал, что он может не соглашаться с Урбачем, подозревать его, ставить под сомнение те сведения, которые доставляет ему через гонца-лазутчика Перекоп-Шайтана некий приближенный к Тугай-бею татарин, имя которого начальник разведки не сообщал даже ему. Одного не мог позволить себе — не учесть его предупреждения и не принять мер, которые помешали бы перекопскому мурзе добыть обоз поляков с помощью самих же поляков.
Первое, что он сделал вчера, после доклада Урбача, — отправился на переговоры к полякам, чем удивил даже самого преисполненного собственной хитрости Лаврина. Ведь визит гетмана дарил графу Потоцкому надежду на то, что еще не все потеряно. А переговоры, которые Хмельницкий решил затянуть, словно несозревшее сватовство, позволяли ему выиграть время для переговоров с Тугай-беем. Зная при этом, что теперь жадноватые польские офицеры расставаться со своим обозом в пользу татар — что любым поляком воспринималось бы как особая форма национального позора, — не поспешат.
2
Тугай-бей словно бы ждал появления Хмельницкого. Два костра, разведенные неподалеку от его шатра, были единственными на весь татарский лагерь. Однако Хмельницкого это не удивляло, ему известно было, что в походе татары не разводят костров даже зимой.
Узнав, что появился командующий повстанцев, мурза вышел из шатра, сел на коня и поспешил собрать вокруг себя свиту.
«Опасается, — понял командующий. — Значит, сведения, которые сообщил Урбач, верны. Утром татары могли бы прорвать наше оцепление и помочь полякам уйти из лагеря. Если бы это произошло, я потерпел бы поражение в первой же своей битве. И тогда — крах всех моих планов и надежд!»
— Я понимаю, что ваши аскеры, наияснейший мурза, истосковались по сражению и добыче. Завтра вам будет предоставлена возможность получить то и другое. — Хмельницкий приблизился к костру, по другую сторону которого восседал в роскошном седле Тугай-бей.
— То есть величайший из полководцев Дикого поля великодушно предоставит моим аскерам право первыми пройти через залпы польских орудий и ворваться в сильно укрепленный лагерь, — насмешливо продолжил его мысль мурза. — Преклоняюсь перед твоей полководческой мудростью, гетман.
— Все задумано несколько иначе, — вежливо парировал Хмельницкий. — Право ворваться в лагерь получат мои казаки. После того, как, оставив свои орудия, поляки уйдут из него.
— Без орудий? — уточнил мурза.
— Я выпущу их из лагеря лишь тогда, когда все переданные мне поляками орудия будут отданы вам, наисветлейший Тугай-бей. Путь на Чигирин, коим будут отступать поляки, неминуемо приведет их к урочищу, которое находится в трех милях отсюда и окружено густым лесом.
— Там, где твои казаки, гетман, готовят сейчас рвы, волчьи ямы и завалы, — продемонстрировал свою осведомленность мурза. — Чтобы не допустить к лагерю подкрепления.
— Чтобы остановить уходящие польские войска. Которые лишатся, как я уже сказал, всей артиллерии и реестровых казаков. Самих поляков останется немного, но они будут уходить с богатым обозом. Окружив их в урочище, ваши воины смогут растерзать колонну залпами из орудий и тучами стрел. Тяжелая польская конница развернуться там не сможет, зато вашим воинам, часть из которых пересядет с коней на деревья, расстреливать их оттуда будет очень удобно. К тому же помогут мои пехотинцы и артиллеристы.
— Значит, разгромить ляхов должны будут четыре тысячи моих воинов? — Словно бы не расслышал Тугай-бей сообщения о казачьей пехоте и бомбардирах.
— …Почти не понеся при этом потерь. Если вы прислушаетесь к моему совету, как минимум тысяча ваших аскеров завтра же сможет уйти в сторону Перекопа с невиданно богатой добычей: польским обозом, оружием, лошадьми и пленными. Не говоря уже о том, что они принесут в Ор-Капи, в Крым, весть о блестящей победе воинов Тугай-бея, разгромивших отборные войска короля Ляхистана.
Тугай-бей объехал разделявший его и Хмельницкого костер и, приблизившись почти вплотную, присмотрелся к выражению лица гетмана. Выдержав кисловатый запах, источаемый его несвежими одеждами и телом, Хмельницкий не отшатнулся, а сохранил абсолютную невозмутимость.
— Я понимаю, яснейший мурза, что вы продумывали иной путь к исходу завтрашней битвы. У вас была возможность предать меня. Присоединившись к полякам, вы рассчитывали разгромить мои полки и потом вдоволь погулять по окрестным городам и селам.
— Татарин идет в степь не за смертью, а за воинской славой и добычей. Уже который день мои воины жгут степной бурьян, так и не познав ни того, ни другого. Тугай-бей еще никогда не возвращался в Ор-Капи, поедая по дороге своих последних загнанных коней.
— Но если вы перейдете на сторону поляков, то вернетесь в Перекоп, потеряв не только коней, но и воинов. Без обоза, который останется у поляков; без славы, поскольку я не приму боя и уведу свои войска к Сечи, где получу подкрепление. Совершив против воли хана предательство, вы накличете на себя гнев владыки Крыма, а в моем лице потеряете верного союзника. Решите, какой исход для вас важнее. Особенно сейчас, когда еще не завершена борьба за бахчисарайский престол.
Молчание мурзы явно затянулось, но Хмельницкий не торопил его.
— Мы должны войти в шатер и все обсудить за чашкой чая.
— С благодарностью принял бы ваше приглашение, светлейший мурза, но тогда вы потеряли бы слишком много времени. Еще до полуночи вы без лишнего шума, незаметно снимете свой лагерь и уведете воинов в сторону урочища. Ваше место в лагере займут две сотни моих казаков. Пусть ляхи думают, что Тугай-бей все еще ждет исхода переговоров.
— Значит, эти переговоры уже ведутся?
— Целый день, — улыбнулся Хмельницкий. Это была одна из тех сугубо дипломатических улыбок, которая должна говорить собеседнику куда больше, чем самые красноречивые слова. — Хотя все было решено с самого начала.
— То есть вы задерживаете у себя послов, — догадался Тугай-бей. — Что ж, испытанный способ.
— Костры гасить не нужно. Мои казаки еще погреются возле них, разведя с десяток новых.
3
На рассвете Чарнецкий проснулся от гула орудий. Едва отряхнув с себя похмельную тяжесть, он, пошатываясь, вышел из шатра и увидел поднимавшиеся над польским лагерем султаны взрывов. Около двадцати казачьих орудий, расставленных по разные стороны от ставки Потоцкого, чтобы польским бомбардирам трудно было подавлять их, методично терзали сонных польских гусар, а несколько сотен казаков, сумевших в темноте вплотную подобраться к валам, расстреливали паниковавшее войско из пистолетов, ружей, а то и из легких фальконетов.
— Но ведь мы же ведем переговоры! — в ужасе прокричал Чарнецкий. — Мы второй день ведем… переговоры. Почему ваши казаки начали штурм?!
Отвечать ему было некому. В пределах ста метров от его шатра не было ни одного повстанца. Два шатра, в которых вчера вечером отдыхали полковники Хмельницкого, за ночь попросту исчезли. Вместе с его, Чарнецкого, конем.
— Ваша светлость! — бросился он к командному холму, на котором обычно останавливался Хмельницкий. — Господин гетман! Прикажите прекратить штурм! Мы ведь еще можем договориться!
Он метнулся к проезжавшему мимо казаку, пытаясь выпросить у него коня, но тот, поняв, что перед ним парламентер, огрел его нагайкой и, грозно обругав, ускакал прочь, к реке, из-за которой с невообразимым воплем показывались первые сотни татар. Пройдя по левому берегу реки, они переправились у самой ставки командующего и с криками «Алла! Алла!» ринулись на польский лагерь, осыпая его градом стрел.
— Что ж это происходит, Господи?! — взмолился Чарнецкий. — Да ведь в лагере же решат, что я продался казакам! Они ведь так надеялись на меня!
Татар оказалось немного, не более двух сотен. В какую-то минуту полковнику даже почудилось, что это не татары вовсе, а одетые в вывернутые овчиной наружу тулупчики казаки, позаимствовавшие у татар луки, кожаные шлемы и щиты. Но даже если так, сути дела это не меняло. Тем более что в польском лагере вряд ли смогут понять, что это пока еще наступают не татары.
Запыхавшись, буквально на четвереньках, Чарнецкий взобрался на холм и, к своему дичайшему разочарованию, увидел, что Хмельницкого там нет. На сером коне, очень похожем на скакуна Хмельницкого, восседал какой-то совершенно незнакомый ему человек, которого он не видел даже среди полковников и сотников командующего.
— Где гетман?! — Упал под ноги его коня Чарнецкий, пытаясь хоть немного отдышаться. — Я спрашиваю, где Хмельницкий?! Он обещал! Я — представитель Стефана Потоцкого!
— По-моему, гетман отправился на переговоры к самому графу Потоцкому, — неохотно ответил всадник. Свита из нескольких казаков, маячивших чуть поодаль, оставалась при этом неподвижной и безмолвной словно это были не люди, а каменные истуканы. — Вам он больше не доверяет.
— Но почему?! Я ведь готов был принять любые разумные условия! Но их, условий этих, так и не последовало!
Сразу четыре ядра, выпущенных польскими бомбардирами, взорвались на дальних подступах к холму, как бы изобличая офицера-повстанца во лжи. Если бы гетман находился в польском лагере, его бы не штурмовали, а главное, пушкари не пытались бы тратить ядра на командный холм, в надежде, что удастся вышибить из седла самого командующего.
— Перед вами — полковник Чарнецкий. — С трудом поднялся с земли парламентер. — Я послан сюда на переговоры самим генералом Потоцким. Где сейчас находится гетман? Мне нужно увидеться с ним!
— Если он не в лагере, значит, спит, — проворчал офицер — это был сотник Урбач, — не отрываясь от подзорной трубы. Он сказал правду. Точнее, полуправду. Хмельницкий действительно отдыхал в своем шатре. Он, Урбач, всего лишь играл его роль, дразня польских бомбардиров.
— Где это? Где он отдыхает?! Да укажите же мне его шатер! — метнулся Чарнецкий к свите Урбача. — И попросите своих полковников прекратить штурм! — вновь обратился к сотнику.
Он обращался так еще несколько раз, прежде чем кто-то из лжесвиты «гетмана» подвел Чарнецкому свободного коня и острием сабли указал на шатер, расположенный у рыбачьей хижины. Еще вчера там вообще не было ни одного шатра, их разбили поздно ночью, готовясь к штурму.
Чарнецкий сам видел, что Хмельницкого растолкали с большим трудом и рискуя жизнями. Выйдя из шатра, он с трудом взобрался на коня и, поднявшись на возвышенность у хижины, с гневом осмотрел вначале польский, а затем свой лагерь.
— Кто приказал штурмовать укрепления поляков?! — в ярости спросил он поднимавшегося на холм полковника Ганжу.
— Мы считали, что приказ исходил от тебя, — ответил тот.
— Я спрашиваю: кто приказал штурмовать польский лагерь?! — В ярости выхватил саблю командующий.
— Но штурм начали не мы, а татары! Кривонос всего лишь приказал поддержать их огнем из орудий. А дальше черт его знает что произошло…
Хмельницкий погнал коня к командному холму. Чарнецкий, так и не сумевший еще подступиться к нему, а точнее, не решившийся на это, помчался вслед за гетманом, опережая полковника Ганжу, Кричевского и еще нескольких офицеров.
Чарнецкий ни на секунду не усомнился в том, что гнев и удивление гетмана были искренними и что бой завязался без его приказа. В то же время его удивляло, что там, на равнине между рекой и лесом, разворачивается настоящее сражение, а почти все полковники и прочие офицеры находятся здесь, в ставке Хмельницкого, и не торопятся отбыть в свои полки. Но так не бывает, точнее, на войне так быть не должно.
Да и сам гетман, вместо того, чтобы немедленно разослать гонцов с приказом прекратить штурм, почему-то решил занять свое место на холме. Словно казаки выполняли только те приказы, которые исходили с этой вершины.
* * *
Прошло не менее часа, прежде чем повстанцы прекратили не очень-то яростный штурм и умолкла казачья артиллерия… Но и после этого татарские сотни продолжали галопировать вдоль польских валов, расстреливая гарнизон из луков и пистолетов.
Чтобы усмирить их, гетман Хмельницкий послал к ним полковника Ганжу с приказом отойти на берег реки и дожидаться результатов переговоров. Когда Чарнецкий услышал о продолжении переговоров и отводе татар, он готов был поклониться командующему в ноги за то, что, по существу, он спасал его честь.
— Мы продолжим переговоры сейчас же? — с надеждой спросил он. — Или же мне нужно вернуться в лагерь, а уж потом…
— Мы завершим их сейчас же, немедленно, — заверил его гетман. — Вначале у меня было намерение вести переговоры о перемирии. Но когда я понял, что командует войсками не сам коронный гетман Потоцкий, а всего лишь его сын — ведь так?
— Это правда, господин гетман.
— … Мне стало ясно, что командир польского корпуса не обладает никакими особыми полномочиями и для коронного гетмана его решения не имеют никакого веса.
— Но мы могли бы договориться о том, как прекратить битву здесь, на Желтых Водах, а уж затем приступить к переговорам о полном перемирии.
— Вы угадали ход моих мыслей, — охотно поддержал его Хмельницкий, проследив, как Урбач со своей свитой метнулся к позициям артиллеристов. Он знал, что, пока Чарнецкий будет докладывать Потоцкому о его условиях, орудия успеют погрузить на повозки и отправить туда, где сидят в засаде реестровики и татары.
— Передайте Потоцкому, что я щажу его самолюбие и не желаю, чтобы в первом же сражении он был убит или попал в плен. Моя разведка доложила, что ни одна сотня польских войск на помощь не идет. Гонца Потоцкого мы перехватили. Вчера вы сами могли видеть этого несчастного.
— Святая правда: это был он.
— Я мог бы сегодня же взять лагерь штурмом, а то и выморить его голодом.
— Вынужден признать, — растерянно пробормотал Чарнецкий.
— Но вместо этого я сниму блокаду лагеря со стороны Чигирина и беспрепятственно позволю вашим войскам уйти отсюда, чтобы присоединиться к основным силам коронного гетмана. Делаю это с надеждой, что такое миролюбие позволит коронному гетману быстрее заключить мир, а мне — направить депутацию Его Величеству королю Польши.
— Поступив таким образом, вы вернете коронному гетману его сына и его войска. Я лично засвидетельствую перед ним ваше благородство. Готов сделать это и перед королем, после чего путь к переговорам будет открыт. Потоцкий вынужден будет пойти на уступки.
— Вы имеете в виду Стефана Потоцкого? — кивнул Хмельницкий в сторону все еще осажденного лагеря, в котором сейчас перевязывали раненых и скорбели по убитым.
— Потребуете каких-либо уступок и от него? — насторожился парламентер.
— Было бы странно, если бы я этого не сделал. Как это выглядело бы в глазах казаков? Ради чего в таком случае они здесь сражались?
— Естественно, естественно…
— Тогда так: ваши войска выйдут из лагеря, мы двинемся вслед за ними, чтобы, встретившись с основными силами, вступить в переговоры. Но для этого мы должны быть уверены, что Стефан Потоцкий не пустит в ход свою мощную артиллерию.
— Разве недостаточно будет слова чести дворянина, которое он даст в присутствии всех своих старших офицеров?
— Я ценю слова чести. Но еще больше ценю артиллерию. Сегодня же генерал Потоцкий должен передать моим казакам все свои орудия.
— Но их много, и нельзя же…
— Вы не поняли меня, полковник. Я сказал: «все орудия», — резко перебил Хмельницкий. — Сегодня же. После этого осада будет снята и путь на Чигирин свободен. Но прежде чем выйти из лагеря, Потоцкий должен позволить реестровым казакам и наемникам самим решить, оставаться в его войске или же перейти на нашу сторону. Причем он должен позволить им этот выбор в присутствии моих офицеров.
— Хорошо. После того как ваши условия будут обсуждены командирами польского войска, я передам вам те условия, которые…
— Это мои окончательные условия, которые теперь уже не подлежат никакому обсуждению. Завтра утром ваш лагерь должен быть оставлен, иначе мне трудно будет удерживать своих казаков. Не говоря уже о жаждущих получить добычу татарах. Вы сами были свидетелем того, что произошло сегодня на рассвете.
— Но что же в таком случае будет с нашим обозом?
— Мы не грабители, господин Чарнецкий. Мы требуем только сдачи орудий. Остальное оружие и обоз остаются с вами.
Чарнецкий облегченно вздохнул: хоть какой-то уступки казаков он все-таки добился. Отказ Хмельницкого от пленения обоза он тут же выдаст за свою заслугу, причем ему нетрудно будет убедить Потоцкого, Сапегу и прочих, что добился этой уступки в сложнейших переговорах.
— Я дословно передам командующему все ваши условия, — с просветлевшим лицом пообещал он и, пришпорив коня, понесся в сторону своего лагеря.
4
Командир передового отряда испанцев капитан Ромеро поднялся на склон холма и несколько минут осматривал открывавшуюся ему внизу, в излучине реки, большую усадьбу, принадлежавшую одному из богатых местных землевладельцев. Ее дома и всевозможные хозяйские постройки лепились друг к другу, образовывая некий крепостной овал, в центре которого высился двухэтажный господский особняк.
Следовало отдать должное его хозяину: строил он с явной оглядкой на смутные времена и таким образом, чтобы на ночь ворота усадьбы закрывались так, словно они были крепостными. И защищаться в ней тоже можно было не без успеха, используя при этом вооруженных работников и слуг.
Дело шло к вечеру, и капитан получил приказ подобрать место для ночлега полка. Увидев эту усадьбу, он решил, что теперь проблемы выбора уже не существует.
— Ну-ка, господа кабальеро, нанесем визит местным француженкам, — скомандовал капитан двум своим лейтенантам, и еще через мгновение авангардный эскадрон на аллюре ринулся к самозваной сельской крепости.
Тут же бросили стада четыре конных пастуха. Примчавшись к обводу построек, они оставили лошадей и друг за другом юркнули в какую-то щель. В страхе побросали свои мотыги четверо копошившихся неподалеку от ворот работников. Забежать за стены усадьбы они не успели, а потому заползли под две из четырех повозок — с сеном и бревнами, — которые почему-то стояли распряженными по обе стороны от ворот…
Однако испанцев они пока не интересовали. Идальго было ясно, что солдат в усадьбе нет, а прислуга и охрана в пять-шесть человек оказать им достойное сопротивление не в состоянии.
Капитан Ромеро и предположить не мог, что и конные пастухи, и работники, трусливо заползшие под повозки, и те шестеро вооруженных людей, что скрывались в высокой повозке, притрушенной сеном, и какое-то время оставались незамеченными — были воинами хорошо известного испанцам корпуса полковника Сирко.
Имя-то капитану было известно. Однако сам он, как и весь полк, впервые сталкивался с казаками, с их коварной тактикой ведения войны, их азиатской хитростью, с которой они привыкли встречать всякий открытый рыцарский наскок испанских кабальеро.
Не успел эскадрон лихо пройтись по мощеному двору огромной усадьбы, удивляясь тому, что она словно бы вымерла, а все двери и окна закрыты и забаррикадированы, как два десятка притаившихся в повозке, под повозками и в других укрытиях казаков расстреляли из пистолетов нескольких приотставших испанцев. Едва остальные испанцы опомнились, как казаки закатили повозки в ворота и, заклинив жердями колеса, завалили бревнами все пространство между ними.
Еще не понявшие толком, что произошло, испанцы носились между постройками, вызывая хозяев и призывая каждого, кто с оружием, выйти и сразиться. Однако выходить никто особенно не торопился. Первыми приняли вызов два казака, пристроившихся под повозками со своими маленькими пушчонками-фальконетами. Их ядра, вместе с пистолетным и ружейным залпом привратных стражей, внесли в ряды испанцев такую смуту, что те мигом оставили идею рыцарских поединков и ринулись назад, к воротам, чтобы поскорее вырваться из западни. И вот тогда грянули выстрелы всех, кто засел в усадьбе.
Вооруженные трофейными английскими ружьями — меткими и дальнобойными, — казаки появлялись везде: на крышах построек, в окошках чердаков, в дверях и окнах конюшен и прочих построек. Те из испанцев, кому удавалось ворваться в какое-либо строение, тотчас же погибали под ударами сабель, оглобель, кос и даже кузнечных молотов.
Не прошло и получаса, как весь эскадрон был истреблен. И пока Сирко, командовавший этим боем, вместе с двумя десятками своих казаков облачался в испанские латы и острогребневые шлемы, один из плененных лейтенантов, «подбадриваемый» казаками, обстоятельно сообщал ему, сколько сабель осталось в драгунском полку и где он сейчас находится. Но самое важное — сигналом к тому, что место для ночлега найдено, должны послужить звуки двух военных труб. Которые немедленно были обнаружены привязанными к седлам испанских трубачей.
— Прибыли офицеры из штаба принца де Конде, — неожиданно доложил сотник Илькун, когда переодетые в испанское платье казаки готовы были выступить навстречу полку пиренейцев.
— Что им нужно? — холодно поинтересовался полковник, удивляясь, как это штабисты умудрились избежать встречи с испанцами.
— Хотят поговорить с вами.
— Деньги они привезли?
— Они скорее привезут нам на растерзание свою королеву Анну Австрийскую, чем выплатят то, что мы честно отвоевали, — невольно проворчал Илькун.
— Только не трогай их королеву, — поморщился полковник. — Культ государыни — последнее, что многие из них, разуверившиеся в этой войне, еще по-настоящему чтут. Казаков поведешь ты. Я пока что проведу переговоры с французами и подготовлю нашу западню к новому бою.
— Славное местечко. И положили мы их тут немало, — окинул взором место побоища сотник. Казаки складывали на повозки трупы, собирали трофеи, опустошали кошельки павших, что мародерством уже не считалось. Они давно были предоставлены сами себе, а воевали, как и раньше, не за плату, а за честь.
Пока спешенных французов вели к Сирко в хозяйский особняк, они почти с ужасом наблюдали за тем, что происходило во дворе. Такого количества трупов на столь небольшом пространстве майору де Косьержу и пятерым его солдатам видеть еще не приходилось.
— Что это за Фермопилы вы здесь устроили, господин полковник? — с уважением спросил майор, увидев Сирко стоящим на крыльце.
— Фермопилы вам представится наблюдать приблизительно через час. Когда сюда подойдут остатки испанского полка.
Прихватив с собой пленного лейтенанта, сотник Илькун уже покинул усадьбу. Оставшиеся казаки спешно помогали вооружаться немногочисленной челяди этой усадьбы, сам хозяин которой третьи сутки пребывал в предсмертном состоянии.
— Ваши люди, переодетые в испанское, собираются заманить его сюда?
— Не только собираются, но и заманят.
— Но хочу напомнить, что у вас не было приказа удерживать эту усадьбу. Вы вправе оставить ее и отойти, избежав встречи с испанцами.
— Вправе, конечно, но ведь мы же на войне, а не на королевских маневрах. Уйдем мы, встретить их придется кому-то другому. К тому же нам не безразлична судьба людей, которым испанцы станут мстить за гибель эскадрона…
— Не возражаю, не возражаю, — предостерегающе замахал руками толстячок майор. Сам он вряд ли когда-либо принимал участие в настоящем бою, и все, что открывалось ему здесь, как и сама храбрость казаков, искренне поражало его. — Вы вправе сразиться. И поверьте: о том, что мы видели здесь, будет доложено лично главнокомандующему. Лично, полковник, можете положиться на меня. Это вопрос чести и долга.
— Как вам будет угодно, — с обескураживающим безразличием ответил Сирко.
— Но вести я привез не очень приятные, — мрачно молвил майор, выдержав скорбную паузу. — К сожалению, все усилия командующего ни к чему не привели. Правительство Франции, конечно, признает условия вашего договора… Но, к сожалению…
— Вы слишком долго и запутанно объясняете все это, — прервал мучения майора полковник Сирко. — Скажите проще: «Денег нет и никогда не будет. Правительство Франции даже не собирается погасить свой долг перед казаками».
— Я сказал только то, что пока их нет. Поскольку правительство задолжало вам за несколько месяцев, вы вправе немедленно прекратить боевые действия…
— И что дальше? — мрачно поинтересовался Сирко.
— Возвращаться на родину.
— Я думал, что прежде вы посоветуете мне заняться грабежом французских деревень. Или создать нищенствующий орден, который будет милостыней добывать себе на пропитание.
— Я сказал только то, что вы имеете право возвратиться на родину. Правительство никоим образом не станет препятствовать этому.
— Пусть бы оно попробовало препятствовать, — угрюмо огрызнулся Сирко. — Принц де Конде пытался как-то посодействовать нашему возвращению к берегам Польши?
По тому, как долго мялся майор, подыскивая ответ, Сирко понял, что, возможно, принц и заикался перед кем-то там в Париже по этому поводу, однако никто всерьез их судьбой не занимался. Не до них сейчас при дворе, не до наемников…
— Принц конечно же…
— Бросьте, господин майор. Передайте принцу де Конде, что с завтрашнего дня мы выходим из боевых действий и направляемся в порт Дюнкерк. Если он не позаботится о том, чтобы нас доставили в Гданьск, нам придется взять этот город еще раз, только теперь уже — чтобы вернуть его испанцам.
— Понимаю, что вы шутите, господин полковник, — затравленно улыбнулся майор. Единственное, что хоть как-то успокаивало Сирко, что офицер этот хотя бы искренне сопереживал им. И столь же искренне хотел бы помочь. Хотел бы… Но не более.
— Испанцы тоже вначале думали, что я шучу с ними. Теперь они горько раскаиваются в своих заблуждениях. Ну да ладно… И еще. Не забудьте потребовать, чтобы к нам был приставлен офицер, который бы сопровождал нас до Дюнкерка и занимался нашей отправкой. Пока здесь находился генерал Гяур, нам легче было объясняться и с принцем, и с правительством, однако теперь его нет.
— Понимаю, понимаю, — вежливо склонял голову майор. — Если не возражаете, этим офицером вызовусь быть я. Вот все, что могу сделать для вас, господин полковник, чьей храбростью искренне восхищаюсь.
— Нужны мне твои восхищения, — по-украински проворчал Сирко, надеясь, что майор, неплохо знавший польский, все же не поймет его. — Советую оставить эту усадьбу как можно скорее, — вновь перешел полковник на смесь французского с польским. — Здесь вот-вот появятся испанцы. И кто знает, как все сложится. Что ни говорите, а испанцев почти полк.
— Я со своими солдатами остаюсь. Скольких вы потеряли в этом бою?
— Одного легко ранило в плечо.
— И все?! Невероятно. В любом случае мой пистолет, а также ружья и шпаги солдат вам не помешают.
— Признателен, майор. Мои парни еще пригодятся мне в Украине. Наверное, вы слышали, что у нас там своя война затевается?
— Восстание, которое возглавляет генерал Хмельницкий. Тот самый, что был у нас здесь. Я слышал об этом от самого принца де Конде.
— Вот поэтому-то мне нельзя терять здесь больше ни одного своего воина.
— Тем более невероятно. Истребить вражеский эскадрон и при этом не потерять ни одного своего солдата! Правду говорят, что вы воюете по каким-то своим канонам, почти не известным ни нам, ни испанцам.
Прошло еще с полчаса. За это время казаки успели увезти тела погибших в ближайший лесной овраг, где погребением их занялись работники и слуги французского аристократа. А Сирко, сопровождаемый майором, который старался не вмешиваться в ситуацию, проследил, чтобы повозки опять оказались в тех местах, где они и находились до появления авангарда, расставил «пастухов» и «работников» с мотыгами. Раздал казакам трофейные пистолеты, патроны и копья.
— Теперь испанцев будет втрое больше! — прокричал он казакам, которые вновь затаились, кто — в комнатах и пристройках, кто — на крышах, чердаках и подвалах. — Но и к нам шестеро прибыло. Майор и его солдаты хотят увидеть, как мы сражаемся. Как считаете, покажем им?!
— И даже платы за показ не возьмем, — ответил за всех сотник Ромашин, казаки которого засели по обе стороны от ворот, где в прошлый раз оказалось жарче, нежели на других участках. С намеком, ясное дело, ответил.
В ту же минуту в воротах показался сотник Илькун со своими «испанцами».
— Полковник, враги уже на возвышенности!
— Заманили-таки? — потер ладони Сирко.
— На трубы свои медные пошли, как стадо!
— С меня хлопцам твоим ведро горилки. При всех говорю! Только бы идальго не учуяли, что тут уже давно смертью пахнет!
— Не должны. Если же учуют — в поле бить будем.
— Укажите место мне и моим солдатам, полковник, — обратился к Сирко майор.
— Здесь, со мной, в господском доме. Сюда они будут рваться с особым остервенением в поисках спасения, так что дай Бог нам удержаться хотя бы на втором этаже. А то ведь захлестнут.
5
— Вы уверены, что они не нападут на нас, полковник Чарнецкий?
— С какой стати? — возмутился парламентер. — Мы выполнили все их условия. Все двадцать шесть орудий переданы, около четырехсот казаков реестра и полсотни наемников ушли к повстанцам.
— Я спрашиваю не о выполнении тех условий, которых обязан придерживаться я, — объяснил Стефан Потоцкий, едва сдерживая накипающую ярость. — А о тех, которых должен придерживаться Хмельницкий, этот ваш гетман-иезуит.
Закованный в доспехи, Потоцкий подошел к воротам, готовясь, в случае предательства казаков, первым принять бой. Рядом с ним топтались на ослабевших без корма конях седовласый комиссар Шемберг, полковник Чарнецкий, еще несколько полковников и ротмистров. Эти еще хотя бы оставались в седлах, а ведь многим в их войске предстояло идти в пешей колонне, поскольку лошади пали от голода или от ядер, а то и попросту были съедены.
— Разве до сих пор Хмельницкий хоть в чем-то нарушил данное слово? — оскорбленно поджал губы Чарнецкий.
Полковнику непонятно было отношение к нему командующего. В конце концов условия выдвигал не он, Чарнецкий, а тот самый «гетман-иезуит». Потоцкий же волен был принимать их или не принимать. Другое дело, что от Чарнецкого не скрылось то ликование, которое воцарилось в лагере, когда солдаты узнали, на каких щадящих условиях открывают перед ними ворота к спасению. Что для них потеря орудий? Тем более, что казаки легко могли отбить их во время отступления. Да и отстреливаться из них в походной колонне все равно невозможно.
— Только потому, что еще не представилась такая возможность, — заметил граф, указывая саблей в сторону медленно приближающихся к лагерю Хмельницкого со свитой.
Какое-то время польские офицеры ожидали, что Хмельницкий подъедет к ним настолько, что смогут поговорить с ним, однако гетман остановился чуть впереди авангардного отряда, самим появлением своим гарантируя, что ничего непредвиденного произойти не может.
Киевский воевода Чарнецкий победно взглянул на командующего. С того момента, когда граф принял условия казаков, он вел себя так, словно вся ответственность за это позорное перемирие и разоружение лежит не на нем, а только на воеводе. И полковник не сомневался, что именно в таком толковании этот бездарный отпрыск коронного гетмана и постарается преподнести своему отцу их позорную капитуляцию без боя, когда они, чудом спасшись, доберутся наконец до его резиденции.
— Вы уж извините, граф, но поведение Хмельницкого кажется мне куда благороднее, чем поведение коронного гетмана, который абсолютно ничего не предпринял хотя бы для того, чтобы выяснить, где мы, что с нами произошло и почему от вас не поступает никаких вестей.
Полковник видел, как стыдом и гневом вспыхнуло лицо командующего. Гордо, насколько позволял стальной воротник его панциря, запрокинув голову, щедро увенчанную темно-русыми кудрями, он высокомерно проехал мимо Чарнецкого, направляясь прямо к воротам.
— Я никому не позволю судить так о его светлости коронном гетмане Польши, — неокрепшим баском предупредил он не только полковника, но и всех остальных офицеров, которых поведение Потоцкого-старшего поражало не менее болезненно, чем воеводу.
Стефан Потоцкий пришпорил коня и, миновав ворота, поднялся по залитому солнцем склону возвышенности, чтобы остановиться буквально в полусотне метров от Хмельницкого. Сверкая синевой стали, его офицеры веером рассыпались по тому же склону, занимая позиции справа и слева от командующего. Прикрыв, таким образом, свое воинство ненадежным, но преисполненным аристократического гонора живым щитом, офицеры терпеливо ожидали, когда же выйдет передовой отряд крылатых гусар, другая часть которых должна была прикрыть отступление всего корпуса.
И Потоцкий был буквально взбешен тем, что понадобилось не менее получаса, прежде чем первые всадники наконец-то вышли из лагеря. Все это время командиры гусар внимательно следили за тем, что происходило на склоне, не полагаясь ни на слово казаков, ни на уверенность своих предводителей.
«До чего же они деморализованы! — с пренебрежительным ужасом оглянулся на своих солдат Потоцкий. — Еще несколько дней такой осады, и они наверняка растерзали бы меня до того, как на валах появились бы повстанцы Хмельницкого. Но им не в чем упрекнуть меня, — самолюбиво молвил он. — Вместо того чтобы вести их на верную гибель, я, словно Моисей, веду их через степную пустыню к обетованной земле Польши».
Тем временем отряд гусар, сохраняя абсолютное молчание, вышел из лагеря и, проходя между рвом и офицерским щитом, повернул на север, к виднеющимся вдалеке холмам, за которыми начиналось лесное урочище. Мысленно граф прикинул, что, если все же произойдет стычка, его войска сумеют продержаться до леса, в котором казаки не смогут развернуться ни с артиллерией, ни со своей конницей. А затем — еще суток двое-трое. Тем более что татары, скорее всего, вообще не войдут в лес, не имея представления, как там следует сражаться.
— Кстати, куда подевались татары? — негромко спросил он Чарнецкого. — Что-то мой слух давно не услаждают их азиатские вопли.
— Они остались за рекой. Сегодня ночью мои разведчики подтвердили это. Уверен, что крымчаки страшно недовольны мирным исходом этой схватки, поскольку орудия и реестровики достались Хмельницкому, а обоз оставлен нам.
— Это-то меня и настораживает. Шемберг, — обратился к королевскому комиссару, — прикажите выстроить здесь полуэскадрон гусар. Мы же присоединяемся к авангарду.
Корпус уходил и уходил… Гусары, кареты командующего и наиболее знатных офицеров, рота спешенных драгун, обоз, увенчанный повозками с ранеными, вновь две сотни драгун…
Оставляя лагерь, который теперь казался им таким уютным и надежным, жолнеры со страхом и ненавистью посматривали на густую стену казачьего войска. Ощетинившись копьями и непонятным полякам, пугающим их монашеским молчанием, оно стояло немым укором им, которые пришли сюда, на их землю, чтобы подавлять вольность, разрушать храмы, грабить селения и навязывать свою веру.
— Они идут вслед за нами! — крикнул адъютант Потоцкого в то самое время, когда уставший после преисполненной тревог и сомнений ночи командующий хотел оставить седло и хоть немного подремать в своей карете.
Потоцкий привстал в стременах и увидел, как, галантно выпустив из лагеря еще один запоздавший обоз из нескольких повозок, почему-то оказавшихся позади арьергарда, казаки тоже не спеша тронулись в путь, чуть ли не пристраиваясь к его колонне.
«А что, вполне достойный эскорт! — с сарказмом поздравил себя двадцатилетний полководец. — Еще чего доброго, они возьмут твое войско под охрану и передадут отцу на поруки, спасая от отрядов татар. Оказывается, унизить полководца можно и таким способом».
Приказав усилить арьергард еще одним эскадроном драгун, он все же не удержался и, перейдя в карету, откинулся на мягкую спинку сиденья. Кажется, никогда еще эта карета не чудилась ему столь спасительной и умиротворяющей, как сегодня.
«Если Господь пощадит меня в эти дни, — полумолитвенно загадывал Потоцкий, подавляя самые страшные предчувствия, которые вдруг начали одолевать его, — это явится величайшим из его чудес».
Сейчас ему хотелось только одного: хоть на несколько минут забыться. А значит, проснувшись или очнувшись, обнаружить, что войско миновало это страшное урочище и оказалось у спасительных приднепровских холмов.
Закрыв глаза, он возродил в памяти танцевальный зал во дворце князя Иеремии Вишневецкого. Звуки мазурки. Офицерские мундиры королевских гусар и бальные платья дам. Неужели все это когда-нибудь повторится?
Племянница князя графиня Ченстевская, с которой он познакомился в тот вечер, позже примчалась в Белую Церковь и разыскала его буквально за час до выступления в поход. К сожалению, она не была настолько красивой, чтобы окончательно пленить его. Но эта ее пылкость, эта истинно польская страсть… И эти метания в поисках молодого графа Потоцкого, о которых уже стало известно чуть ли не во всех польских дворцах и замках Киевского воеводства…
Так, под звуки мазурки во дворце князя Вишневецкого, постепенно заглушавшие скрип колес его кареты, ржание лошадей и гул многих тысяч простуженных солдатских глоток, он и уснул. Однако, увы, снился ему не бал во дворце Вишневецких, а огромное поле, усеянное алыми маками и человеческими черепами. Маками и… черепами. Причем самой поразительной в этом сне показалась ему странная сцена: крылатые гусары волоком тянут по этому полю огромные пушки, а в бороздах, что оставались после их зловещих военных рал, восходят… красные маки и черепа!
Уже основательно погружаясь в этот полусон-полубред, командующий слышал выстрелы мушкетов, зычные команды офицеров и ржание сотен мечущихся в сутолоке разрушенной колонны лошадей. Однако все это ниспадало на него откуда-то из поднебесья, словно небесное отражение кровавого земного безбожества.
— Ваша светлость! — ворвался в этот адский военно-походный хорал встревоженный голос адъютанта.
— Что там еще? — недовольно поинтересовался командующий, даже не удосужившись открыть глаза.
— Проснитесь, ваша светлость! Там, впереди, засада!
— Какая еще засада, чья?! — прохрипел граф, прежде чем успел открыть глаза. — Кто посмел напасть?!
— Казаки перекопали долину, по которой пролегает дорога, и забросали ее завалами! — докладывал капитан, пригнувшись в седле, чтобы командующий мог видеть его. — Гонец из авангарда говорит, что возле завала замечены татарские разъезды.
— А казачьи разъезды?
— У завала казачьих, кажется, нет, однако они позади и по бокам…
— Какого дьявола?! Хмельницкий выпустил нас из лагеря под слово чести! — прервал его доклад Потоцкий, рванувшись из кареты. — Мы приняли все его условия! Где он?!
— Казаки преследуют нас, но пока что не нападают. Хмельницкий вместе с ними. Возможно, засаду устроил отряд другого атамана.
— Так истребите эту засаду! Где Чарнецкий?! — распоряжался граф, сонно взбираясь на подведенного ему коня.
Но не успел он разобраться, что там произошло впереди колонны, как со всех сторон послышались крики: «Татары! Орда! Нас окружили! В лесу полно ордынцев!»
— Идиот, ты забыл провести переговоры с Тугай-беем! — в сердцах упрекнул себя Стефан Потоцкий. — Ты решился выйти из лагеря, не заручившись поддержкой татар. И Хмельницкий воспользовался этим, зная, что ордынцы выдвинут свои собственные условия.
6
В этот раз западня, устроенная казаками полковника Сирко, не совсем удалась. Да она, собственно, и не могла оказаться удачной. Полк испанцев слишком растянулся, и, пока арьергардная часть его подтягивалась к усадьбе, офицеры авангарда успели сообразить, что тут что-то неладное. Куда девался эскадрон, посланный в разведку? Но и казаки тоже вовремя почувствовали, что хитрить больше нельзя.
После первых же залпов, которые донеслись из усадьбы, «привратные» казаки оттеснили с десяток испанцев, разъединили их и, жертвуя собой, все же сумели вновь запрудить ворота повозками с сеном и бревнами. Оказавшись меж двух огней, они залегли под повозками и отстреливались, пока не кончились заряды.
Поняв, что их товарищи оказались в смертельной западне, часть испанцев, оставшихся вне усадьбы, спешилась и бросилась на приступ ворот. Тут уже не помогли ни фальконеты, ни ружья. Казаки попросту не успевали их перезаряжать. Взобравшись на повозки, вооружившись оглоблями и бревнами, что полегче, они держались, сколько могли, выложили возле себя гору трупов, но и сами гибли от пуль и шпаг врагов.
Только незначительной части полка, побывавшего в стенах усадьбы-крепости, удалось все же прорваться назад, но казаки, конные и пешие, ринулись вслед за ней, хватая на ходу свободных лошадей и ссаживая с седел испанцев, противостоявших им в поле. И потом еще долго преследовали идальго, настигая их небольшие разрозненные группы, истребляя и развеивая по окрестным полям и перелескам.
Когда бой завершился и все вернулись в полуразгромленную усадьбу, оказалось, что казаки потеряли четырнадцать человек убитыми, а французы — двоих.
— Теперь вы понимаете, господин майор, что сражаемся мы здесь, во Франции, не за золотые, которые нам не платят? — спросил Сирко майора Косьержа под утро, после того как, похоронив всех павших, они накрыли столы в господском доме, чтобы помянуть и своих, и чужих.
— Вы и ваши воины достойны высшей похвалы и высших наград, господин полковник. Главнокомандующему этот бой будет описан в мельчайших деталях.
Сирко снисходительно улыбнулся. Каково же было удивление обоих, когда несколько минут спустя в зал ворвался сержант, возглавлявший казачий разъезд, и сообщил, что к усадьбе приближается сам принц де Конде с полком улан. Главнокомандующий узнал, что сюда двинулся полк испанцев, и почти всю ночь спешил на помощь.
— А как ты разузнал об этом? — недоверчиво поинтересовался Сирко.
— Только что встретили передовой разъезд французов. Мы, конечно, как могли, объяснили им, что от испанцев остались только шпаги да шлемы. Не знаю, правда, поверят ли. Но говорят, что по пути им попадались небольшие группки испанцев, в ужасе убегавших от них, куда глаза глядят.
Сирко и майор немедленно сели на коней и отправились встречать принца. Правда, уже не как спасителя, а как слегка запоздавшего к столу гостя.
Уланы двигались не спеша, буквально засыпая в седлах. Узнав от разведчиков, что испанский полк разбит казаками Сирко, французы как-то сразу расслабились и думали сейчас только об одном — как бы поскорее сойти с коней и хотя бы часок подремать.
— Я не мог допустить, чтобы вы полегли здесь все до одного, — словно бы оправдываясь, объяснил принц полковнику Сирко. — Под рукой не оказалось никаких войск, кроме этого потрепанного полка, который вчера я приказал отвести в тыл, чтобы дать ему отдохнуть и пополнить новобранцами. Но и он прибыл без командира. Полковника пришлось уложить в госпиталь — ранен осколком ядра.
— Мы недостойны того, чтобы ждать помощи лично от вас, господин главнокомандующий.
— Прекратите, полковник. Я такой же солдат, как и все мы здесь. В бой мне приходится вступать не реже иного моего генерала. Все, что мне было сказано со слов ваших разведчиков, правда?
— Я не настолько хорошо владею французским, чтобы описывать сражение, господин принц. Куда лучше об этом расскажет вам майор Косьерж. Храбрейший офицер, который тоже потерял в этом бою двоих солдат. — Майор сразу же попытался включиться в разговор, но де Конде предостерегающе остановил его жестом руки.
— Увижу, — мрачно пробасил он.
— Но погибшие уже похоронены, — предупредил его майор.
— Поле сражения видно не по телам, — несколько загадочно ответил принц.
И Сирко мысленно похвалил себя за то, что, выезжая навстречу ему, приказал казакам сложить у парадного подъезда господского дома все трофейное оружие. «А ч…то… — оправдывал свое собственное славолюбие, — пусть видит… А заодно — учится».
Представ перед целой горой шпаг, копий, панцирей, ружей и шлемов, принц де Конде сошел с коня и, сняв свой собственный шлем, склонил голову.
— Это красноречиво, полковник, — проворчал он. — Очень красноречиво. А вы, майор, еще пытались мне как-то все это описывать.
— Извините, мессир, но мне пришлось видеть сам бой. Он был куда красноречивее.
Войдя в банкетный зал, принц сразу же почувствовал себя хозяином стола и попросил Сирко пригласить всех его офицеров.
— У меня нет времени оставаться здесь дольше, чем будут длиться два первых тоста, — объявил он, предложив майору де Косьержу быть переводчиком. — Но для того, чтобы сказать все то, что хотел сказать вам, достаточно одного, первого. Прежде всего, именем короля Франции… Пардон, — вдруг прервал он себя. — К чему эти казенные благодарности? Первый тост я предлагаю выпить за поразившее Францию своим мужеством храброе степное рыцарство, которое вы все представляете.
Они выпили стоя и тотчас же, не садясь, вновь наполнили бокалы.
— А теперь я объявляю, что все вы повышены в чине, в соответствии с табелью о рангах, которая существует во французской армии. То есть каждому из вас присваивается очередной воинский чин. Что же касается вас, господин Сирко, то я буду ходатайствовать перед королевой о присвоении вам чина генерала. Это присвоение будет справедливым еще и потому, что при дворе вас уже давно величают именно так — генералом.
Все прокричали «Виват!» и поняли, что вторым тостом ограничиться принц не сможет. И на просьбу Сирко к главнокомандующему не утруждать себя хлопотами по повышению в чине, поскольку все равно в украинском казачестве такого чина — генерал — не существует, никто, кроме самого принца, внимания на это не обратил.
Ну а третий тост де Конде поднял за корабль, который выделен полку Сирко для того, чтобы его рыцари смогли вернуться в Польшу.
— Вы, господин полковник, — обратился он к казачьему атаману, — очевидно, помните ту захватывающую, почти пиратскую историю с кораблем, который был добыт князем Гяуром?
— Еще бы! — улыбнулся Сирко.
— Так вот, этот корабль предоставлен в ваше распоряжение. Вином и провиантом мы вас обеспечим. В порт Дюнкерк отправляетесь завтра же. При одном условии… — Принц выдержал длительную паузу и осмотрел присутствующих. — Мне известно, что кое-кто из казаков, в том числе и офицеров, изъявил желание остаться во Франции и продолжить службу уже как подданный французского короля.[26]
Офицеры ответили молчанием, однако принц и не требовал, чтобы кто-либо из них прямо сейчас, в присутствии всех остальных, отказался от возвращения на родину.
— Условие нашего правительства, господин генерал: вы даете всем пожелавшим остаться во Франции возможность сегодня же покинуть расположение корпуса и отправиться в ставку вместе со мной. Мои генералы быстро решат их армейскую судьбу и помогут принять подданство.
Сирко тяжело вздохнул. Он понимал, как понадобились бы сабли его опытных офицеров, да и рядовых казаков, там, в армии Хмельницкого. Но что поделаешь?
— Они — вольные рыцари, господин главнокомандующий. Никто не смеет упрекнуть их в том, что поле своей рыцарской славы они нашли здесь, на земле Франции. Так же, как многие французские рыцари уже нашли и, надеюсь, еще найдут его на земле Украины.
7
Осмотревшись, Потоцкий понял, что все его войско — несколько тысяч конных и пеших солдат, вместе с обозом — оказалось затиснутым в довольно глубокой лесной котловине, каменистые склоны которой возносились к небесам, словно склоны Сциллы и Харибды.
— Впереди путь прегражден завалами, а значит, коннице не пройти! — едва пробился к командующему комиссар Шемберг. Он уже был без шлема, лицо залито потом, слипшиеся седые волосы спадали на лицо.
— Так бросьте против них пехоту!
— Она позади нас и туда ей не пробиться!
— Значит, спешьте гусар и драгун! Въехать верхом в ад еще никому не удавалось! Как там ведут себя казаки Хмельницкого? — тотчас же забыл он о комиссаре.
— Пока не нападают, — ответил полковник Чарнецкий, который, взобравшись на повозку, пытался осмотреть в подзорную трубу позиции арьергардного прикрытия.
Однако позиций как таковых не было. Узнав о засаде, отряд арьергарда ускорил темп и начал сливаться с обозом, опасаясь, как бы казаки внезапно не ударили ему в спину. Точно так же поступили и гусары из передового отряда. Образовалась огромная, неорганизованная и почти не поддающаяся какому бы то ни было управлению масса конного и пешего люда, повозок, карет…
— Они-то не нападают, — продолжил Чарнецкий, — но я вижу, что по тропе, вон той, что слева, к татарам подходит артиллерия. Причем везут орудия не на повозках.
— Тянут волоком, что ли?
— Нет, вроде бы на каких-то специальных возках. Орудия теперь стоят на своих собственных колесах.
Он хотел добавить еще что-то, но в это время со всех сторон вновь слышалось леденящее душу:
— Татары!
— Ордынцы смяли наши заслоны!
— Мы окружены татарами!
«Да они попросту паникуют!», — попытался успокоить себя командующий. Но в следующее мгновение и сам увидел ордынцев. Они появились на верхнем ярусе склона, заполнив своими косматыми лошадками и вывернутыми шерстью наружу тулупами все пространство между валунами и деревьями, образовав вместе с ними одну непроходимую стену.
— Кареты и повозки — в круг! — прогромыхал он срывающимся баском, пытаясь перекричать тысячеголосый рев вооруженной толпы. Он знал, что сейчас произойдет. Никто, никакой военный опыт, никакие призывы к мужеству не могли вытравить в душах польских аристократов страх перед конницей этих азиатов. Никакие укрепления, никакой численный перевес не позволял его жолнерам чувствовать себя достаточно сильными и защищенными, когда напротив них появлялись чамбулы крымских татар или белгородских ордынцев.
— Повозки в круг! — поддержали командующего находившиеся вблизи офицеры.
— Полковник Чарнецкий, пробивайтесь на правый склон и сдерживайте татар вон там, — указал командующий саблей, — на среднем ярусе, у валунов!
— Если только удастся сдержать их! — мужественно вернулся в седло полковник.
— Комиссар Шемберг! Берите на себя левый фланг! Не позволяйте татарам приблизиться к лагерю.
— Им достаточно удобно расстреливать нас из луков и оттуда, из-за гребня, — обреченно изрек Шемберг, в то же мгновение растворяясь в гуще всадников, которым казалось, что спасение там, где находится командующий, а не там, где слабее враг.
Какое-то время татары как бы наблюдали за тем, что происходит в котловине. Несколько тысяч луков застыли с натянутыми тетивами. Несколько тысяч стрел замерли перед полетом. Но затем несколько тысяч глоток вдруг разом взревели в едином, взбадривающем словно чумной напиток из диких трав воплем: «Алла!»
Поляки густой массой двинулись на татар по крутому склону, однако залпы орудий выкашивали их, а тысячи луков расстреливали в упор тех, кто уцелел под ядрами. Конные гусары пытались прорваться через завалы, но попадали в волчьи ямы и под град пуль тех казаков, которые ждали их в засаде. А те из драгун, что сумели прорвать первый татарский заслон, попадали под сабли второго заслона.
Пение тетивы, залпы орудий, проклятия сражающихся и предсмертные стоны умирающих — все слилось здесь в немыслимую симфонию судного избиения.
— Смотрите, граф, — адъютант командующего указал рукой на оголенный склон долины в той стороне, откуда они пришли. — Это казаки. Они сдерживают слово — не вступают в бой.
— В этом нет смысла. Они бездействуют, наслаждаясь своим предательством.
— Они не предали нас, граф, они просто-напросто наши лютые враги. Давайте сформируем отряд и попытаемся прорваться через заслон татар, за которыми стоят казаки и, очевидно, Хмельницкий. По крайней мере попадем в плен к славянам, а не к азиатам.
Потоцкий уже спешился и стоял между двумя растерзанными пистолетными пулями и осколками ядер каретами. Это последнее укрытие, которое хоть как-то спасало его. А там, на склонах, уже сходились врукопашную. Солдаты бросались на татар, разя их прикладами мушкетов, забрасывая камнями и подрубая саблями ноги лошадей.
— Нас все же предали! — крикнул граф собравшимся вокруг него офицерам, отстреливавшимся из мушкетов и пистолетов. — Но сейчас не время истязать себя! Посмотрите на эти вопящие орды! Лучше погибнуть здесь, на поле боя, чем стать пленниками этих зловонных азиатов!
— Но попытайтесь спастись, граф! — крикнул только что вернувшийся со склона комиссар Шемберг. Он уже был ранен, вся голова и лицо были залиты кровью. Однако продолжал оставаться в седле.
— Я не стремлюсь спасти свою жизнь! Лучше умереть здесь, чем терпеть издевательства победителей или потом, вернувшись из плена, укоры отца и всей высокородной шляхты!
— Взгляните! — крикнул кто-то из офицеров. — Татары смяли наш заслон и прорываются сюда.
— Все — по коням! — решительно скомандовал Потоцкий, первым садясь в седло. — Мы должны отбросить их! В бой!
* * *
Пока в урочище разгоралось сражение, Хмельницкий сидел на большом валуне на вершине склона и, хотя и наблюдал за ходом избиения своих врагов своими же врагами, однако всем вокруг казалось, что мысленно он пребывает где-то далеко от этих мест. И гул битвы в его сознании звучал уже как предвестник тех битв, которые ему еще предстояло завязать и выиграть.
— Что мы здесь делаем, гетман?! — появился за спиной у Хмельницкого полковник Глух [27]. — Мы сражаемся или не сражаемся?! А если сражаемся, то кто командует?
— Мы придерживаемся условий, на которых поляки оставили лагерь. Поэтому в битву не вступаем.
Хмельницкий знал: этот полковник недоволен тем, что он позволил полякам уйти из лагеря, оставаясь одним из немногих, кто настаивал на его штурме. Однако пока что списывал это на элементарную горячность молодого офицера, произведенного из рядовых казаков-реестровиков сразу в полковники. Очень уж он понравился полковнику Ганже, которого Глух поддержал, когда тот бунтовал казаков против Барабаша.
— Но мы не выполняем их. Мы попросту обманули поляков. Устроили завалы и засады, натравили на них Тугай-бея, отдав ему все свои орудия.
— Татары бьют поляков. Неужели тебе приходилось когда-либо видеть зрелище более приятное? И вообще запомни: в бой мы вступим только тогда, когда его нельзя будет выиграть хитростью.
— Я такой войны не понимаю, — резко ответил Глух. Смуглое худощавое лицо его выдавало в нем степняка, в роду которого прижились, очевидно, и половцы, и печенеги. Да и без монгольской крови тоже наверняка не обошлось. Высокий, статный, он всем своим телом излучал какую-то особую силу, которая, впрочем, разрушалась его же словесной несдержанностью и совершенно противной Хмельницкому суетливостью. — Лучше уж самим вступить в бой. Так будет честнее.
— Честнее будет, полковник, если ты возьмешь своих воинов и до моего появления на месте побоища попытаешься пленить, а значит, спасти, Стефана Потоцкого, Шемберга и Чарнецкого. Мне бы не хотелось, чтобы они оказались в руках татар и терпели их издевательства. Хотя… нет. Татары вряд ли отдадут их тебе. Отряд мы поведем вместе, — поднялся Хмельницкий со своего «камня мудрости». — Как считаешь, так будет справедливее? — осенил себя иезуитской ухмылкой гетман.
Они успели вовремя. Когда отряд, который вели Хмельницкий и полковник Глух, пробился через татарское оцепление и завалы трупов к тому месту, где стояли растерзанные кареты польских военачальников, Стефан Потоцкий уже истекал кровью от нескольких ран, а два десятка офицеров стояли вокруг него обезоруженные, с поникшими головами пленников.
— Прекратить сражение! — крикнул Хмельницкий по-татарски, увидев неподалеку только что появившегося на поле битвы Тугай-бея. — Теперь они уже не воины, а пленные!
— Ты навсегда опозорил свою честь, гетман, — попытался пробиться к Хмельницкому полковник Чарнецкий. — Все, что ты здесь видишь, — на твоей и моей совести! Ведь это мы с тобой заключали договор, под наше слово чести тысячи воинов вышли из лагеря.
Пройти к Хмельницкому казаки ему так и не дали, оттеснили и чуть не затоптали лошадьми. Но все же гетман успел сказать ему то единственное, что мог сказать в подобной ситуации:
— Из лагеря под Желтыми Водами вы вышли под то же слово чести, под которое огнем и мечом прошлись по Украине, прежде чем прибыли туда по наши души. Эй, полковник Глух, лекарей наших казацких сюда! Потоцкого перевязать и положить на повозку! Попытаемся спасти его! Всех остальных раненых тоже перевязать, и не допускайте, чтобы кто-либо издевался над ними или, не доведи Господь, грабил.
— Ты, гетман, появился здесь, как ангел-спаситель, — грустно улыбнулся Глух. — Не вовремя, слишком запоздало, но зато с каким благородством заботишься о состоянии пленных. Будь уверен, что Речь Посполитая никогда не забудет твоих «миротворческих» стараний.
— Трудно нам с тобой будет воевать в одной армии — вот что я тебе скажу, — ответил Хмельницкий, окатив полковника злым прищуром глаз. — Подумай, стоит ли тебе оставаться в моем войске. Может, тебе лучше собственный отряд организовать и пройтись, например, по Волыни или Брацлавщине.
— Торопишься изгнать?
— О нашей размолвке будем знать только мы. Кроме того, ты остаешься полковником повстанческой армии, а твой полк будет входить в ее состав. Координировать свои действия с нами будешь через первого полковника Максима Кривоноса.
Глух осадил нетерпеливого жеребца, на котором восседал, прогарцевал вокруг Хмельницкого и только потом произнес:
— Подумаю, гетман, подумаю… Но и ты тоже… подумай, сам понимаешь, что есть над чем.
8
Там, внизу, посреди залитого солнцем урочища, начиналось пиршество победителей. Там делили пленных и поражались богатству польских обозов; великодушно перевязывали тех, кого еще можно было спасти, и столь же великодушно добивали тех, кто молил последней пули как избавления от страданий.
Там на всех хватало панцирей и злотых. Изодранные казачьи свитки уже украшали рукояти дворянских сабель, а татарские конники наполняли приседельные кобуры нательными серебряными крестами и к поясам подвязывали мешочки с драгоценными перстнями.
Однако Хмельницкого все это воронье ликование не интересовало.
Сойдя с плоской вершины скалы, он ступил чуть в сторону, туда, где начинался земляной холм, который, вполне возможно, на самом деле являлся братской могилой скифов, гуннов, а то и готтов, — и с силой вогнал в него свою саблю. Упершись в рукоять, он загонял ее все дальше и дальше, пока не ощутил, что руки его, вместе с рукоятью, коснулись влажной поверхности земли.
— Это моя первая победа! — произнес он так, словно обращался к собравшемуся у холма войску. — Саблю, которая ее добыла, я подарил своей земле. Причем сделал это от всего войска своего, всего восставшего народа. И так будет всякий раз, когда ко мне будет приходить очередная великая победа.
Он опустился на колено, поцеловал крестовину рукояти словно крест на могиле матери и, запрокинув голову, еще несколько минут стоял над ней, молитвенно обращая свой взор к небесам.
Но только взор. Он не молился. Человек, принявший три веры и все три веры предавший, он уже давно не нуждался ни в покаянии, ни в молитвах. Он был достаточно сильным для того, чтобы не тревожить ничьих богов ни прошениями о милостях, ни нареканиями.
Если в эти минуты он к кому-либо и обращал свой взор, то только к себе. К своей решительности, своему мужеству, своему полководческому таланту…
Сегодня здесь, на этом холме воинской славы, гетман повстанческого войска создавал кумира из самого себя, твердо зная при этом, что отныне будет верить только себе и полагаться только на себя. С молитвами к небесам пусть обращаются слабые и нищие. Только слабые и нищие.
…Это произошло! Рубикон перейден. Здесь, под Желтыми Водами, он разбил первый польский корпус, который был направлен против него, и, таким образом, перед Украиной, Польшей, перед всей Европой на освященном вражеской кровью оружии поклялся, что уже никогда не отступится от пути, который избрал, — трудного, многострадального, но священного «пути воина».
Возможно, подобное заклинание в начале этого пути кому-то могло бы показаться странным. Но Хмельницкий никому и никогда не решился бы признаться, что еще вчера он сомневался: нужно ли вообще ввязываться в это сражение? Что, выпуская корпус Стефана Потоцкого из осажденного, страждущего лагеря, он еще втайне надеялся, что все так и завершится: он снимет осаду, поляки уйдут на север, туда, за Чигирин и Черкассы.
Если бы все произошло именно так, тогда и дальнейшие события разворачивались бы совершенно по-иному. Получив его письмо, король Владислав IV так и решит, что полковник реестровиков Хмельницкий продолжает собирать войско для того, чтобы совместно выступить против татар и турок. А стычка у Желтых Вод — всего лишь странное недоразумение, вызванное строптивостью гетмана Потоцкого, которое в далекой мирной Варшаве вполне можно было воспринять как легкий рыцарский турнир посреди Дикого поля.
Хмельницкий не желал вести армию против короля. Он не желал развязывать настоящую, большую войну против Польши. Ну а что касается того, чтобы усмирить и поставить на место зарвавшихся польских аристократов, которые учиняли на украинских землях суд и расправу, не считаясь ни с законами Речи Посполитой, ни с канонами христианской морали, — так это он всегда успеет. Но при этом будет поджидать появления здесь коронного войска под хоругвями самого короля.
Как когда-то Александр Македонский не мыслил себя вне Греции, вне эллинской культуры, вне величия всей той истории, которая веками создавалась высокоцивилизованными греками, так и польский аристократ Хмельницкий, происходивший из польско-литовского дворянского рода, не мыслил себя вне Великой Польши. Из всех признаний, которых Македонский сумел добиться своими победами, для него лично самым значимым и величественным было признание его… полноправным, а значит, полноценным эллиномДля Хмельницкого, которого в салонах Варшавы и Кракова презрительно держали за «украинского полушляхтича», днем такого признания станет день, когда ликующая Варшава объявит его выдающимся польским полководцем. Или хотя бы просто… польским.
Вступая в тайный сговор с королем, восставшим против сената и большинства польских магнатов, полковник Хмельницкий рассчитывал именно на такое восхождение. Тем более что после победы над турками, имея за собой огромную воинскую силу, целый край и великий славянский народ, он вполне мог бы претендовать даже на польскую корону. Если уж на нее столь упорно претендовали семиградские князья, шведский и французский принцы, то ему, урожденному польскому дворянину, чей род столько сделал для Короны [28], сам Бог велел.
В то же время Хмельницкий все глубже проникался обидами украинских мелкопоместных шляхтичей, тех настоящих хозяев края, которые терпели от турок, татар, белгородской орды и собственных холопов, но тем не менее упорно продолжали осваивать земли на самом порубежье с Диким полем, каждый день ожидая очередного нашествия и давно разуверившись в помощи со стороны короля. К тому же эта помощь все чаще нужна была для защиты не от ордынцев, а от своевластия местных воеводских и старостатских «императоров», не признающих ни воли короля, ни законов Польши, ни страха перед Господом.
Знал бы кто-нибудь из его полковников, на каком распутье пребывал сейчас тот, на кого они возлагали свои надежды как на Мессию! Какие терзания познает в эти часы его бунтарская казачья душа!
Поднявшись с колен, Хмельницкий оглянулся на адъютанта Савура, еще троих телохранителей, что ожидали его у подножия холма, перекрыв телами и копьями единственную ведущую на вершину тропу. Нет, они конечно же ни о чем не догадываются. А если догадаются, то не посмеют объявить об этом. В любом случае со своими терзаниями он разберется сам.
Кто кроме него сумеет возглавить это восстание? Кто кроме него, знающего тактику поляков и турок, знающего языки и тонкости дипломатии, сумеет не только разбить врага в нескольких битвах — это удавалось и до него, — но и вступить в сложную дипломатическую игру со всеми соседними государствами, со всей коронованной Европой? Кто сумеет утвердить Украину в мире как равную среди равных?
Нет, сама судьба вложила в его руки тот меч, который должен наконец принести на эту землю мир и справедливость; позволить этому народу самому избирать себе короля или великого князя, самому издавать законы и определять веру.
Так как же ему соединить в себе польский аристократический эллинизм и верность польской короне с непримиримостью вождя восставшего народа? Как утвердить себя в славе полководца Украины, сохраняя при этом блеск аристократического восхождения, который возможен лишь при дворе Владислава IV?
— Что прикажете делать с комиссаром Шембергом, полковником Чарнецким, Сапегой, остальными высокородными? — услышал он позади себя голос Ганжи.
— А сам ты как поступил бы с ними?
— Да как сказать — явно не ожидал такого встречного вопроса казак, который был опытным в бою, но никогда не проявлял особой смекалки в иезуитских словесных ловушках, время от времени устраиваемых гетманом.
— Так и говори. Что ты молчишь, полковник? — в это «полковник» Хмельницкий как бы вложил свое собственное представление об аристократизме высокого воинского чина, о святости которого только что размышлял.
Ганжа нервно передернул широкими — словно бы в каждом вырастало по булаве — плечами, почмокал, по своему обычаю, толстыми мясистыми губами.
— Если бы войска вел я, все они были бы посажены на кол. Но не здесь, а в Чигирине или в Корсуне. Чтобы народ видел, что мы не только воюем с польскими жолнерами, но избавляем этот край от высокородной шляхетской чумы.
Все еще стоя к нему спиной, Хмельницкий согласно кивал. Это даже удивило Ганжу: неужели поступит с ними так, как поступил бы он?
— А по мне, так их попросту следовало бы отпустить, — неожиданно заключил гетман. — Но только этого тебе и подобным потом никак не объяснишь.
— Да мы и не допустим, чтобы их отпустили!
— Еще бы! Коль уж вы вцепились в загривки… Словом, отправьте их в Чигирин. Пленниками. Там видно будет.
— Потоцкого, может, все-таки добить?
Только сейчас Хмельницкий оглянулся на Ганжу через плечо, да так и задержал взгляд.
— Добей, если рука поднимется.
— Только для того, чтобы зря не мучился.
— Сказал же, добей.
— Поднялась же твоя рука на все войско, поднимется и моя на Потоцкого, — все еще не верил в искренность его совета. — Я это к чему? Что-то реестровики да старшина начали жалеть его, охранять.
— Я приказал казачьему лекарю-саксонцу сделать все возможное, чтобы спасти этого воина и вернуть отцу, вернуть Польше.
— Чтобы очухался, собрал новое войско и принялся «щадить» нас с вами? Как «щадили» они четвертованием гетмана Сулыму или гетмана Павла Бута, прибывшего в Варшаву с охранной грамотой самого коронного канцлера.
— Знаешь историю казаков, полковник. Кто бы мог подумать? Кого казнили мы, кого казнили они… Не говоря уже о том, скольких посекли турки и татары. Собрав весь этот гнев, мы должны были бы изрубить полмира. И, оказывается, были бы правы. Были бы, конечно, если бы оставшиеся полмира не изрубили нас. Знаю, что полковник Глух уже сейчас упрекает меня в том, что привел татар. Разве не так?
— Я — Ганжа, а не Глух, — напомнил ему полковник, вежливо склонив, однако, голову.
— И пусть только кто-нибудь посмеет обидеть Потоцкого или Чарнецкого, — дал ему Хмельницкий понять, что аудиенция на холме, на краю побоища, завершена.
«Но даже после этой битвы я направлю королю письмо, — решил Хмельницкий. — Разгром ненавистного ему Потоцкого не должен становиться причиной нашего раздора».
— Савур, коня!
9
В нем закипала ярость иезуита, считавшего, что обращаться к Господу имеет право только он один, ибо только он один достоин обращаться к Господу.
Остальные же должны взирать на небеса с молитвенным страхом обреченных.
АвторЕго привели в резиденцию коронного гетмана и швырнули к ногам графа Потоцкого.
— Разъезд драгун подобрал его в степи, ваша светлость, — с негодованием доложил адъютант. — Этот солдат утверждает, что он — единственный, кто уцелел из всего корпуса, возглавляемого вашим сыном. Остальные изрублены казаками и татарами или же взяты в плен.
— Единственный? — скептически улыбнулся Потоцкий. Он вел себя как человек, понимающий, что его решили разыграть. Хотя трудно было представить себе, что на всем пространстве от Чигирина до Гданьска найдется хоть один безумец, которому могло бы взбрести такое в голову. — Это ты — единственный, кто уцелел из всего войска моего сына?
Солдат, его звали Войтеком Смаруном, уже не в силах был подняться с колен, даже если бы ему и разрешили сделать это. Но пока что граф не собирался снисходить до такого разрешения. В расползшихся сапогах, изодранном жупане, с волосами, сбившимися от пота и грязи в два комка, пехотинец оперся на руки и, казалось, уже даже не пытался поднять голову, чтобы взглянуть на своего командующего.
— Так что ты там говорил о корпусе, смерд? — брезгливо оглядывал его коронный гетман.
— Он погиб. Весь. Лишь немногие попали в плен. В основном офицеры, за которых татары могут получить выкуп.
Вальяжно раскинувшись в кресле, Потоцкий невозмутимо процеживал сквозь зубы крепкое, сладкое вино.
— Ты — ничтожный дезертир, поэтому я прикажу повесить тебя.
— Повесьте, ваша светлость, — обреченно махнул рукой солдат.
— Скажи честно: где остальные?
— Там, — махнул солдат куда-то в сторону двери.
— Где «там»? — помрачнело лицо Потоцкого. — Говори все, что знаешь, иначе я прикажу подвесить тебя за ребро на крюк.
— Под Желтыми Водами, — едва слышно произнес солдат.
Потоцкий вопросительно взглянул на адъютанта и хорунжего, который возглавлял разъезд драгун, задержавших этого скитальца степей.
— Он сказал: «под Желтыми Водами», — объяснил хорунжий, побледнев так, словно допрашивали не спасшегося, а его самого! — Когда мы выловили этого солдата, он говорил мне то же самое.
Этот безусый офицерик еще и в глаза никогда не видел коронного гетмана, грозность и склонность к скорой расправе которого давно стали притчей во языцех. А тут сразу приходится давать объяснения.
— Где это? Что такое — Ж? елтые Воды? — неожиданно занервничал граф, поддаваясь сугубо отцовскому предчувствию.
Пехотинец и командир разъезда недоуменно пожали плечами.
— Я спрашиваю: где это? — чуть не сорвался на крик Потоцкий, обращаясь уже только к пехотинцу.
— У истоков реки Желтой. Это приток Ингульца, — вдруг вспомнил майор Торуньский. — Там очень болотистая местность. Так мне объяснил один драгун из разъезда хорунжего. Судя по тому, что рассказывает этот оборванец, сражение произошло как раз на этом болоте. Драгун знает местность.
— В урочище Княжеские Байраки, — натужно прохрипел Смарун. — Это и есть пекло, в котором водится вся земная нечисть.
— Так что же произошло с корпусом? — поднялся Потоцкий. Сняв со стены саблю, он оголил клинок и кончиком его приподнял подбородок солдата. Он вел себя так, будто перед ним был не поляк, не его воин, а пленный враг. — Что ты видел? Что лично ты видел?!
— Я был среди тех последних, кто сражался в самом урочище. Когда я понял, что все, мы разгромлены, то притворился убитым. Там их много лежало: под кустами, на болотных кочках — раненые, убитые. А потом, когда повели пленных и собрали трофеи, я уполз в заросли. Ночью пробрался через лес и ушел в поле. Все эти дни я скитался. Ради Христа, дайте мне что-нибудь поесть, иначе я умру… — всхлипнул пехотинец, буквально поразив графа нелепостью своего поведения и мизерностью просьбы.
Состояние дезертира Потоцкого не волновало. Слушая его рассказ, он оттягивал момент, когда следовало задать самый важный вопрос: что произошло с командиром корпуса, с его сыном? Только потому, что граф не спешил с этим вопросом и до боли в сердце боялся ответа на него, он приказал адъютанту дать беглецу чего-нибудь попить. Этот солдат должен выжить. Он ему еще не раз понадобится, если только действительно является одним из немногих оставшихся в живых…
Солдата куда-то увели, точнее, утащили. Несколько минут отхаживали, чем-то поили-кормили. Успели даже слегка переодеть и отмыть лицо. После чего вновь ввели в кабинет коронного гетмана и без разрешения хозяина усадили в одно из свободных кресел.
— Пока вы будете расспрашивать, он не умрет, — со знанием дела заверил Торуньский. — Вот только знает он немногое.
— И я бы не очень-то доверял ему, — добавил хорунжий. — Мало ли чего способен наговорить солдат, дезертировавший с поля боя.
— Но я не дезертир! — неожиданно резко перебил его солдат. На вид ему было не более двадцати. Очевидно, из новобранцев, которых нахватали по разным имениям да по городкам из обедневших польских семей. — Я так и понял, что вы принимаете меня за дезертира. А я сражался честно. Вот вам крест. На коленях, на Библии поклянусь.
Смарун пытался сползти на пол и встать на колени, однако адъютант своевременно придержал его и вновь затолкал в довольно глубокое, обтянутое тонкой свиной кожей кресло.
Хорунжий намерен был оспорить его клятвенные заверения, однако Потоцкий презрительно бросил:
— Выйдите вон, хорунжий. Вы, адъютант, останьтесь.
Коронный гетман налил себе в венецианский бокал немного вина, отпил несколько глотков, не спуская при этом глаз со скитальца.
— Ты, солдат, знаешь, что командующим этим корпусом был граф Стефан Потоцкий?
— Знаю, ваша светлость.
— Знаешь, что он — мой сын?
— Ваш сын?! — ужаснулся скиталец. — Нет, ваша светлость, этого я не знал. И никогда не видел его, потому что только три недели как в армии.
— Во время сражения ты тоже не видел его? Ты не видел, как он сражался и что с ним произошло?
— Не видел. Но слышал, как кричали: «Потоцкий погиб. Потоцкий!» Вы уж извините, ваша светлость. Потом об этом переговаривались наши офицеры. Один из них сказал, что Потоцкий смертельно ранен. И слышал, как казаки жалели, что не смогли взять живым Потоцкого. Я ведь просидел в том болоте ночь и весь день. Господин Барабаш тоже убит казаками, которые взбунтовались против него. Но это произошло еще раньше. Все казаки и драгуны перешли на сторону Хмельницкого. Уходя из лагеря, мы передали казакам пушки и отпустили казаков королевского реестра.
— Значит, вас разбили во время отступления?!
Еще несколько минут солдат рассказывал все, что знал. Потоцкий больше не прерывал его и никак не комментировал услышанное. Он был потрясен настолько, что, заметив его состояние, майор спросил, не позвать ли лекаря-германца.
— Теперь у меня есть три лекаря, способных излечить меня от этой страшной напасти, — вино, сабля и моя ненависть к этим выродкам — казакам, — спокойно, холодно ответил Потоцкий. — Не останется такого креста на Украине, на котором я бы не распинал их, не останется такой ветки, на которой хотя бы одного не подвесил. Огнем и мечом пройду по этой земле, огнем и мечом верну ее в католичество, под корону польского короля.
* * *
Приказав вывести солдата, Потоцкий опустошил несколько бокалов вина, но чувствуя, что оно не способно одолеть его, попросил подать коня. Вырвавшись за пределы предместья, он приказал майору и шести гусарам охраны оставить его одного и погнал коня в поле, в сторону Черкасс.
Почти загнав животное, граф свалился с седла у какой-то часовни и, обхватив руками стоящий рядом с ней каменный крест, выплакался наедине с собой, проклиная эту войну, свою гордыню, заставившую толкнуть сына в поход против Хмельницкого, и свою несчастливую долю.
Он все помнил… Как польный гетман Калиновский отговаривал его от похода на Сечь; как призывал назначить командиром передового отряда кого-то из более опытных военачальников. Как заклинал не разделять армию, ибо при этом разделе получалось, что большая часть войска оставалась в тылу, а экспедиционный корпус расчленялся на две колонны: одна двигалась степью, другая, на лодках, спускалась к Сечи по Днепру.
«Как я мог положиться на совершенно не смыслившего в военных делах сына, послав его на позор и гибель, против Хмельницкого?! — спрашивал теперь себя Потоцкий. — Конечно, мне хотелось, чтобы сын добыл себе славу полководца и со временем сменил меня на посту коронного гетмана, но вот к чему это привело… Как я мог допустить, чтобы казаков возглавила эта продажная бездарь Барабаш?! Который конечно же не способен был удержать под своей булавой реестровиков, поскольку никогда не пользовался у них никаким авторитетом. Они убили своего гетмана, предались повстанцам и заодно предали моего сына! Нет прощения! Нет им прощения!» — В кровь сбивал он кулаки, колотя ими по старому, изъеденному стихиями каменному кресту.
Когда адъютант и гусары из охраны обнаружили его, граф пребывал в состоянии полнейшей прострации. Какое-то время Торуньскому даже казалось, что он сошел с ума.
Реквизировав в ближайшей деревеньке обычную крестьянскую повозку, половину пути, пока Потоцкий не пришел в себя, они везли его в этой повозке словно на казнь.
Очнувшись, сильно постаревший полководец заговорил с сыном. В его воспаленной фантазии проигрывалась сцена, которую адъютант хорошо помнил. Это была сцена напутствия Стефана перед его первым боевым походом.
— Я дал тебе войско, Стефан. Под твоим командованием находятся лучшие силы, которые у меня есть. Гусары, прусские драгуны, саксонские артиллеристы, отборный полк казаков реестра. Иди напролом. Развей повстанцев по степи. Доберись до Сечи и накажи эту погань так, чтобы, узнав о твоей мести, содрогнулись в Бахчисарае и Стамбуле. Хмельницкого и всех прочих атаманов и полковников привези сюда закованными в кандалы. В эти дни Польша должна понять, что у коронного гетмана Потоцкого появился сын, достойный славы отца и деда. Что у нее вновь появилась «первая сабля Короны». Что у нее — свой Македонский и свой принц де Конде. Ты должен повести себя так, чтобы твое имя вошло в историю Польши, а сам ты со временем взошел на польский трон.
Напутствие было необычным. Возможно, поэтому адъютант запомнил его почти дословно и мог подтвердить, что сейчас Потоцкий тоже почти дословно повторяет его.
Но когда перед коронным гетманом действительно представал сын… О, когда он еще представал, каждое слово его было преисполнено не любовью к Стефану, не страхом за него, а презрением ко всем остальным сыновьям рода человеческого и ненавистью ко всем остальным отцам, чьи сыновья должны были сходиться в эти дни на полях сражений не только Польши, но и всего мира.
Он благословлял сына на жестокость и казни как на славу рыцарского турнира — вот что поразило тогда майора, у которого далеко, в Люблине, тоже подрастал сын. Но еще больше удивляло барона Торуньского, что и сейчас, мысленно обращаясь уже к духу погибшего сына, слова старого полководца не стали ни добрее, ни мудрее. И ему вдруг подумалось, что сыновья таких отцов недостойны славы воинов, как недостойны и жизни. Они просто-напросто обречены на гибель во время позорного бегства.
Не зря же Николая Потоцкого терзала не столько мысль о том, что Стефан погиб, сколько о том, что погиб он позорно, уходя из отлично укрепленного лагеря, так и не приняв боя, гнусно пытаясь откупиться от казаков артиллерийскими орудиями, которые всегда составляют гордость любого войска. Что погиб он посреди болот, погубив весь корпус, от рук взбунтовавшейся черни.
Благословив сына на «очередную» гибель, Потоцкий какое-то время обессиленно лежал на повозке и бездумно смотрел в небо. Возможно, в эти минуты он видел себя уже оттуда, из поднебесья, лежащим на той последней повозке, которая доставляла его к фамильному склепу.
— Куда вы меня везете, висельники?! — неожиданно поднялся он на колени. И все остановилось и замерло. — Коня мне! — рявкнул Потоцкий так, что вздыбились даже те кони, которые вели себя спокойнее под залпами крепостных орудий.
— Коня коронному гетману! — тотчас же опомнился адъютант.
Оказавшись в седле, Потоцкий залитым кровью взором осмотрел своих спутников и, закрыв глаза, яростно покачал головой.
— Она, эта взбунтовавшаяся чернь, еще не представляет себе, что такое Потоцкие во гневе. Они не способны представить себе, во что я превращу эту землю, под каждым камнем которой плодится по змее.
«Это не так, мы приходим на отчую землю без гнева и пристрастия, — словно молитву пробубнил про себя барон Торуньский. — Поэтому идти по ней тоже должны без гнева и пристрастия… Каждый же, кто проклянет отчую землю во гневе своем, проклянет тем самым и жизнь свою на этой земле…»
Коронный гетман помнил, что время от времени, порой в самые неподходящие минуты, адъютант Торуньский, некогда мечтавший стать кардиналом и примасом Польши, вдруг обращался к Богу и к Святому Писанию как настоящий священник. Когда Потоцкий чувствовал это, в нем закипала ярость иезуита, считающего, что обращаться к Господу имеет право только он один, ибо только он один достоин обращаться к Господу. Остальные должны взирать на небеса с молитвенным страхом обреченных.
«Ты должен повести себя так, чтобы имя твое вошло в историю Польши, а сам ты взошел на польский трон», — вновь вспомнилось адъютанту отцовское напутствие Николая Потоцкого.
— До сих пор каждый из посматривавших на польскую корону, — словно громом небесным поразил его граф Потоцкий, обращаясь в гневе к тем врагам своим, что засели в польском сейме, — примерялся: достоин ли он трона Польши! И только Потоцкие снисходительно смотрят на корону, решая, достоин ли жалкий трон Польши того, чтобы кто-либо из Потоцких восходил на него! Вот увидите: Польша еще содрогнется!..
10
— Челом тебе, гетман, — возник в сумраке кабинета сотник Савур. — Прибыл гонец из Крыма.
— Из Перекопа? — довольно безразлично поинтересовался Хмельницкий. Его резиденция располагалась в небольшом особняке какого-то польского аристократа, почти в центре Чигирина. И целый день он был занят тем, что принимал у себя командиров небольших отрядов и даже неплохо организованных полков, прибывающих к нему из Брацлавского, Киевского, Подольского и Волынского воеводств.
Разнесшаяся по Украине весть о победе его армии под Желтыми Водами укрепила в вере сомневающихся и указала путь тем, кто уже давно, еще с ранней весны, громил польские усадьбы в своих волостях, ожидая вестей из Сечи от Хмельницкого.
Поначалу эмиссары [29] гетмана не очень-то торопили предводителей местных восстаний с уходом из родных краев. До поры до времени те должны были оставаться в своих волостях, чтобы будоражить народ, собирать разрозненные отряды в полки, а главное — оттягивать на себя часть польских войск и дворянского ополчения. Зачастую ополченцы вообще не решались оставлять свои воеводства, зная, что, стоит им уйти, как ряды восставших увеличатся во стократ, и защищать их земли будет, по существу, некому.
— Не из Перекопа, — ответил Савур. — Оттуда гонцы прибывают в основном к Тугай-бею. Этот-из Бахчисарая. С письмом от самого хана Ислам-Гирея.
Командующий откинулся на спинку высокого, грубовато сколоченного дубового кресла и, заинтригованно повертев свитком с только что написанным на имя польского короля посланием, коротко, победно рассмеялся.
— А ведь не появись этот гонец, пришлось бы слать в Крым своего. Ко мне гонца от хана!
— И еще… Прибыл небольшой отряд из Русского [30] воеводства. Около ста пятидесяти прикарпатских гайдуков.
— Из Русского? — не поверил Хмельницкий. — Ты точно расспросил?
— Сам атаман — из-под Галича.
— Он мне понадобится. Из этого воеводства у нас еще, кажется, нет ни одного воина. Пусть пока побудет у резиденции, а пока что зови посла Ислам-Гирея.
Что-то знакомое почудилось командующему в гигантской фигуре этого гонца-крымчака — арабский тип лица, черные курчавые волосы, которые немного странно было видеть глазу, привычному к чалме и бритым, отливающим медью загара головам ордынцев. Но что самое удивительное — на нем был мундир прусского офицера, очевидно, вызывающий в магометанских душах соплеменников этого воина чувство личного оскорбления.
— Вы ли это, Карадаг-бей?! — поднялся Хмельницкий ему навстречу. И, прищурив слабеющие глаза, утвердился в своей догадке: — Ведь Карадаг-бей, я не мог обознаться?
— Я, сераскир Хмельницкий, я, — спокойно подтвердил воин. — Слишком уж я выделяюсь — и в одежде, и по внешности своей — в общей массе татар, чтобы можно было обознаться.
— Как же вы оказались гонцом Ислам-Гирея? Вы, будущий правитель Таврийского ханства? — с шутливой иронией поинтересовался гетман.
— Скорее королевства. К ханству душа моя не лежит. Мы живем в Европе. И коль уж судьба занесла нас на ее поля битв и жатв, придется жить по-европейски.
— Прекрасное объяснение, — жестом пригласил он посла к столу. — Но все же мне придется повторить свой вопрос.
— Не только гонцом, господин командующий, но и автором письма, увековеченного печатью хана и его росписью. Для меня лично это был повод прибыть сюда с чамбулом в пятьсот сабель, не попадая с ним под покровительство Тугай-бея.
Командующий сдержанно, понимающе улыбнулся. Он помнил, что с некоторых пор перекопского мурзу, ставшего теперь соперником Карадаг-бея, и будущего правителя Таврийской королевской орды — разделяла хрустальная восточная вежливость.
— Не желая попадать под командование Тугай-бея, вы тем самым обрекаете себя на необходимость находиться под моим командованием, — напомнил Хмельницкий. — Вас это не очень пугает, полковник Карадаг-бей?
— Полковник?
— Генеральского чина у нас нет. Коронный хорунжий, коронный есаул… Европейцам, уважаемый Карадаг-бей, трудно разобраться в этих званиях. Как и в звании гетмана, происходящего от германского «гауптман», которое означает у них там всего лишь что-то вроде нашего сотника, капитана. У казаков же полковник — высший армейский чин. Кроме разве что гетмана.
— Меня сие не пугает, господин командующий. Хотя помощи от меня будет немного. Тем более что сейчас я пребываю в ссоре с ханом белгородской орды. Пока вы будете отвоёвыватъ земли для своей будущей державы на территории Украины, мне то же самое придется делать в буджакских степях.
Задумчиво взглянув на Карадаг-бея, Хмельницкий не стал продолжать этот диалог. Ему и так стало ясно, что будущий правитель степного королевства не намерен терять воинов на полях сражения, слава которых не затронет его даже краешком своего неблагодарного крыла.
— Не так часто приходится услаждать свой взор ханскими письменами, полковник, — принял он из рук Карадаг-бея бумажный свиток.
* * *
Письмо было составлено на том польском, каким его представлял себе один из бахчисарайских писарей. Тем не менее, отбросив всю восточную витиеватость стиля этого послания, гетман довольно быстро уяснил, что оно адресовано не только ему, но и Тугай-бею. Хан поздравлял их с победой и призывал воздержаться от дальнейших боевых действий, пока он лично не прибудет в Украину с «непобедимым войском ислама».
Очевидно, считая, что теперь повстанческая армия должна устремиться на северо-запад, в сторону Умани и Брацлава, он предлагал дожидаться его «исламских бессмертных» на реке Ингул, напротив Желтых Вод. И еще Ислам-Гирей даже не просил, а буквально требовал немедленно отправить на Дон такое посольство, которое способно было бы уговорить донских атаманов не нападать на крымские улусы ни с суши, ни со стороны моря [31].
— Эта просьба… относительно донцев… — спросил Хмельницкий, пристально глядя на Карадаг-бея, — одно из условий того, что хан действительно сможет оставаться моим союзником до конца войны?
— Ислам-Гирей почувствовал дым победных костров, дым победы. Хан не может позволить, чтобы победителем в Крым вернулся Тугай-бей, а не он. Ведь тогда и в глазах Стамбула победителем ляхов предстанет правитель Перекопа, а не правитель Бахчисарая, что для Порты далеко не одно и то же.
— Султану все еще не хочется видеть на троне Ислам-Гирея, — согласно кивал Хмельницкий.
— Кого угодно кроме него.
— Например, вас, Карадаг-бей?
— Мне этого пока что не предлагали, — процедил новоявленный полковник. — А что касается донских казаков… Хану в самом деле трудно уводить из Крыма достаточно большое войско, а тем более ждать затем подкрепления, пока восточные улусы Крыма будут терзать дончаки. Узнав, что хан ушел на помощь запорожцам, они сразу же снарядят целую флотилию, а то и рискнут прорваться через Перекоп.
— Не говоря уже о том, что хану очень хотелось бы столкнуть меня с донцами. Требуя от них прекратить набеги, я тем самым как бы выступаю союзником хана. А, нарушив свое обещание, дончаки, по существу, объявят войну Украине.
— Как видите, мне нет необходимости слишком долго объяснять здесь все то, что задумано в Бахчисарае, — вежливо склонил голову Карадаг-бей.
Немного поразмыслив, Хмельницкий тяжело вздохнул и, передав свиток Карадаг-бею — он должен был явиться с ним в стан перекопского мурзы, — неохотно произнес:
— Посольство на Дон я, конечно, снаряжу. Причем завтра же. Пошлю наиболее искусных в дипломатии казаков, из тех, что уже бывали на Дону, сражались вместе с донцами и которых там, надеюсь, еще помнят.
— Так и будет передано хану.
— Кстати, где сейчас находятся его войска и сколько у него сабель?
— Мне не велено называть их численность.
— Знать о ней, полковник Карадаг-бей, буду только я. А мы — союзники. К тому же обещаю, что в плен к полякам в ближайшие дни не попаду.
— Я оставил Ислам-Гирея у Перекопа. Там он поджидал еще одного мурзу с войсками. Думаю, дня через два он начнет переправу через Днепр.
Карадаг-бей извещал об этом таким тоном, что поневоле можно было задаться вопросом: а стоит ли вообще ждать подхода «непобедимого войска ислама»?
Словно подтверждая его догадку, Карадаг-бей как бы между прочим добавил:
— Прикиньте, сколько дней вы подарите ляхам [32] для укрепления своей армии и для прибытия свежих полков, если станете еще, как минимум, неделю ждать здесь подхода орды. Да потом еще две недели вам понадобится, чтобы договориться с ордой, обнаружить, где разбит лагерь поляков и добраться до него… И все ради того, чтобы Ислам-Гирей мог объявить на весь Крым, а также Порте, что он добился блестящей победы над войсками Ляхистана.
— Вы правы, Карадаг-бей, или, как выражаются в подобных случаях на Востоке, вашими устами говорит сама мудрость. Вы не будете возражать, полковник, если время от времени я стану прибегать к вашим советам по вопросам, которые касаются взаимоотношений Украины, Крыма и Турции?
— Хану я официально уже не служу. Турции — тоже, хотя и являюсь подданным султана. Но кто в таком случае помешает вам испросить совета у одного из своих полковников, господин командующий?
«По крайней мере теперь к чину полковника он, судя по всему, относится куда серьезнее, чем вначале», — подумал Хмельницкий.
— Сегодня же издам письменный универсал о присвоении вам чина полковника, уважаемый Карадаг-бей. На то время, пока мы как союзники воюем против поляков.
— Уверен, что Тугай-бея это сообщение огорчит не настолько, как мне бы этого хотелось, — улыбнулся полковник.
— Для меня важно, чтобы Тугай-бей тоже не очень-то рассчитывал на помощь хана, а выступил с нами против поляков буквально в ближайшие дни, пока они не опомнились.
— Если я сумел убедить вас, господин командующий, думаю, смогу убедить и Тугай-бея. Хотя это намного сложнее. И, замечу, опаснее.
Два дня спустя разведчики донесли, что коронный гетман Николай Потоцкий создает хорошо укрепленный лагерь на берегу речки Рось, в нескольких верстах от Корсуня. Но, прежде чем основывать его, граф отдал его своим войскам на полное разграбление, после чего приказал сжечь до основания.
— Разве жители города оказывали сопротивление его войскам? — зло спросил Хмельницкий, выслушав доклад об этом начальника своей разведки Урбача.
— Да нет, он вошел в город без боя. Ни одной сабли, ни одной стрелы.
— Тогда чем он оправдывает разграбление и уничтожение Корсуня?! — еще грознее вспыхнул командующий. — Потоцкий находится на своей земле. На территории своего государства. И, насколько мне известно, все еще занимает пост главнокомандующего польской армией.
— Когда будем пытать его, прежде чем посадить на кол, граф станет объяснять свое поведение тем, что немало корсунцев находится сейчас в нашем войске.
— Из-за этого следует сжигать город?
— А еще он объявит это местью за гибель своего сына.
— Его сын погиб в бою, как может погибнуть каждый из нас. — Урбач понимал, что в эти минуты Хмельницкий не его пытается убедить, а самого себя. Аргументы, которые он высказывает сейчас, понадобятся командующему со временем, когда Хмельницкий обратится с жалобой на действия польского командования к королю. Когда нужно будет объяснять причину своего вооруженного выступления иностранным послам.
— Я мог бы сказать проще, — ответил полковник, — действиям Потоцкого вообще нет никакого оправдания.
— Лагерь-то у него крепкий?
— Только-только начал закладывать. Однако место выбрано довольно удачно. Тем более что там еще остались старинные валы, непонятно кем и когда возведенные, но достаточно мощные. Подправить их — и все!
— Расскажешь об этом на совете войсковой старшины, — молвил Хмельницкий. — Нам нужно склонить наших офицеров к тому, чтобы выступать немедленно, пока поляки не сожгли еще десяток городов, пока этот взбесившийся пес Потоцкий окончательно не озверел, пока его войско не пришло в себя после всего, что узнало о битве под Желтыми Водами.
— …О которой уже давно ходят легенды. Не без нашей, естественно, помощи распространяемые, — хитровато ухмыльнулся Урбач. — А уж наших полковников убедить мы сумеем.
Еще через час появились лазутчики, которых несколько дней назад полковник отправил в низовье Днепра. Они донесли, что войска хана подошли к реке и разбили лагерь на левом берегу, готовясь к переправе. Но, судя по всему, с переправой они торопятся.
— И не только с переправой, — заметил Урбач. — Вообще не похоже, чтобы хан слишком уж торопился на помощь нам, на эту войну.
— Потому что уверен: в любом случае мы станем дожидаться его. Или же, наоборот, решил появиться, когда успех следующей битвы уже будет предрешен, — поддержал его Хмельницкий.
11
Корсунь гетман Потоцкий приказал поджечь вечером. Он не просто сжигал этот городок. С наступлением темноты Корсунь должен был запылать как огромная поминальная свеча по его сыну, одному из лучших полководцев Речи Посполитой. Он должен был запылать одновременно со всех концов и, окруженный плотным кольцом войск, всю ночь полыхать между небом и землей, согревая землю, в которую, еще таким молодым, сошел его сын, и в то же время, пытая на огромном костре небо, позволившее, чтобы это страшное убийство состоялось.
— Там осталось слишком много людей, господин коронный гетман, — доложил ротмистр Радзиевский, чей отряд сопровождал Потоцкого во время осмотра города, который, до сожжения, на трое суток был отдан войскам на полное разграбление.
— Там осталось слишком много предателей и бунтовщиков — это вы хотели сказать, ротмистр? Но их никогда не бывает «слишком много». Их бывает лишь вполне достаточно для того, чтобы, напустив на них войска, пройтись по костям и пеплу, по пеплу и костям.
— Однако позволю себе, господин коронный гетман, высказать собственное мнение, — хватило у ротмистра мужества высказать то, что в течение всех этих долгих трех дней угнетало его. — Да, существует обычай, согласно которому полководец, захвативший после длительной осады город, имеет право отдавать его на трое суток в полную власть своих воинов. Но ведь мы, вернее, ваши войска, не штурмовали Коростень. Город не сопротивлялся. А главное, это ведь не чужой город, не Стамбул и не Варна. Обычный город польской Короны.
— Именно поэтому я и приказал сначала разграбить его, а затем сжечь дотла, — холодно процедил Потоцкий, вновь предаваясь своей подзорной трубе.
Лагерь, который он приказал разбить чуть южнее Корсуня, находился на большом плато, охватываемом излучиной Роси. Потоцкий поднялся на господствовавшую над ней скифскую могилу и, не сходя с коня, вот уже час наблюдал, как город постепенно опоясывается огромным огненным обручем. Тысячи его солдат-факельщиков поджигали город с окраин, с тем, чтобы оставшихся в нем горожан огонь загонял в центральную часть Коростеня, которая стала бы для них огромной огненной западней.
— Только потому я и приказал сжечь этот проклятый город, — вновь вернулся к своей мысли коронный гетман, не отрываясь от подзорной трубы, — что это не вражеская крепость, не столица ненавистных нам Порты или Швеции, а обычный польский город, каких на просторах Речи Посполитой сотни. Ибо таким же обычным стало во многих из них вероотступничество, предательство и бунтарская ненависть к Его Величеству королю и королевским наместникам.
— Господин коронный гетман, — остановился у подножия могилы польный гетман Мартин Калиновский, — прибыло большое посольство от зажиточных горожан Корсуня. Они просят вашу светлость выслушать их.
— У меня уже было посольство богатых горожан, и я выслушивал его, — жестко проговорил Потоцкий, почти не разжимая презрительно сжатых губ.
— Но это наиболее уважаемые горожане, — медленно поднимался Калиновский по склону степного «нероновского замка». — И они, от имени всех католиков города, просят принять их, чтобы…
— На этом пепелище уже нет ни богатых, ни уважаемых горожан, — оставался непреклонным Потоцкий. — Поскольку нет самих горожан. Они должны были раньше вспомнить, что богаты, чтимы, хранимы королем и верой нашей. Но они предавались иным воспоминаниям. Да-да, совершенно иным воспоминаниям и замыслам они предавались, господин Калиновский, вместо того, чтобы очистить город от бунтовщиков и выставить достойное ополчение для борьбы с запорожскими шайками.
— Но город имеет свой прославленный реестровый Корсунский полк.
— Почти полностью перешедший теперь на сторону Хмельницкого? Этот «прославленный» полк вы имеете в виду? Я не желаю больше выслушивать по этому поводу ни горожан, ни лично вас, господин польный гетман, — закипал яростью граф Потоцкий. — Здесь нет больше горожан. Им не о чем больше заботиться. За одну ночь я величественно освобожу их от забот, богатства и переживаний. Теперь все они — вольное племя кочевников… — мстительно рассмеялся Потоцкий.
— Стоит ли потом удивляться тому, что большая часть этого кочевого племени остановилась лагерем рядом с военным лагерем Хмельницкого?[33]
— Мы и там будем истреблять их. Во всех городах и всех лагерях, где бы их города и лагеря ни находились.
— Но так нельзя вести себя на территории своей страны, с подданными своего короля.
— Уже завтра никто в Речи Посполитой не только не будет сомневаться в том, что так вести себя можно, — напыщенно произнес Потоцкий, — но решит, что именно так и следует вести себя. Во всяком случае, на территории, опекаемой казаками.
«Этот человек уже не подчиняется никакому иному рассудку, кроме рассудка мести, — мелькнуло в сознании ротмистра Радзиевского, слышавшего весь этот диалог. Те месяцы, которые он вместе со своим отрядом в две с половиной сотни драгун провел в лагерях Потоцкого, не прошли для ротмистра зря. Он все отчетливее начинал воспринимать войско коронного гетмана как сброд опального аристократа, в одинаковой степени ненавидевшего и короля, и подданных его; тех, кто восставал против короля и кто его все еще боготворил. — Этот человек не может и не должен долго зверствовать в Украине от имени Его Величества, сея ненависть к королю и католической вере, к самой Речи Посполитой».
Поднявшись на вершину холма, Калиновский несколько минут осматривал пылающий город с его высоты, стоя рядом с графом. Но Потоцкий не замечал ни своего заместителя, ни его праведного гнева. Сейчас, в ночи, ему казалось, что это горел уже не город, а само небо низвергало лавины огня на грешную землю, правя Страшный суд во времена, непредвиденные Святым Писанием и не освященные волей Божьей. «Они творили грешные дела свои, и теперь над ними творят суд», — всплыли какие-то слова, то ли когда-то читанные, то ли нашептанные вещим духом. — Они творили грешные дела свои…»
— Так вот, ваша светлость, — неожиданно проговорил Калиновский. — Я не желаю ни видеть этого, ни знать. Перед всем войском готов заявить, что не имею никакого отношения ко всему тому, что творится на этой территории. И моего греха на этом пепелище, — обвел острием сабли огромное багряное зарево, словно холст талантливейшего из художников, — нет!
Разногласия с польным гетманом у Потоцкого начались с первого дня украинской кампании. С тех времен, когда он разделил войско на части, послав одну из них в виде авангарда во главе со своим сыном под Желтые Воды… Конечно, будь проклят день, когда он решился на этот поход. Однако изменить уже ничего нельзя. Да, резко выступая против экспедиции Стефана, польный гетман Калиновский оказался прав. Но эта его правота лишь усиливала в сознании Потоцкого чувство собственной вины за гибель сына, а значит, неприязнь к самому Калиновскому.
«Прощай, Стефан! — прошептал он, охлаждая свой воспаленный взор на багряном пожарище. — Им воздалось за кровь и раны твои. Видишь ли ты с высоты небесной все то, что здесь происходит; можешь ли видеть, какую вселенскую свечу скорби и духовного очищения зажег я посреди этих бунтарских полей на костях, на тлене врагов твоих?»
— Но я действительно не желаю ни видеть, ни знать всего того, что творится здесь вопреки воле короля и сейма! — кликушествовал тем временем польный гетман Калиновский. Вот только, всматриваясь в отблески огромного жертвенного костра, в виде которого представлялся ему сейчас пылающий Корсунь, граф Потоцкий не намерен был выслушивать бредни какого-то нищего духом, хотя и сановного плебея.
Он с презрением взглянул на Калиновского только тогда, когда, высказав еще какие-то гневные, а потому бессмысленные слова, польный гетман демонстративно начал спускаться вниз, к подножию, чтобы затем на какое-то время вообще оставить лагерь.
— Ничего, — зло швырнул ему в спину Потоцкий, — далеко вы от меня не уйдете! Расправившись с этими бунтарями, я поведу свое окрепшее, закаленное в боях войско на Польшу. И не уверен, что когда-нибудь не буду вот так же наблюдать, как пылает Варшава, эта погрязшая в разврате и распрях, распроданная чужеземцам и вероотступникам столица. Кстати, поджигать ее буду так же, как поджигал Корсунь. Сначала отдам ее на три дня своему войску…
— Вы действительно становитесь опасным для Польши, — уже не сдерживал свой гнев польный гетман.
В ответ Потоцкий зло рассмеялся.
— Передайте богатым и уважаемым горожанам Корсуня, — крикнул он вслед Калиновскому, — что каждого из них, кто до утра останется в пределах досягаемости моих воинов, я прикажу вздернуть! Такое «милостивое снисхождение» великого коронного гетмана Польши их устраивает?
— Стоит ли потом удивляться, что местные казаки порываются вздернуть каждого, кто осмелится именовать себя поляком? — ответил Калиновский, уже не столько для главнокомандующего, сколько для самого себя, вслух размышляя.
«Не лучше ли было тебе остаться тогда в лагере Хмельницкого? — с какой-то неясной тоской в сердце подумал ротмистр Радзиевский, покидая возвышенность вслед за польным гетманом. — Это конечно же было бы веро— и клятвоотступничеством. Зато не сжигал бы вот так ни за что города. Впрочем, — возразил он себе, — еще неизвестно, какие новые «украинские Нероны» появятся на этой земле. Причем не только в стане Потоцкого…»
12
— Я привел с собой двоих казаков, которые уже прошли весь свой походный путь — от истоков его до могильных насыпей. Теперь нам осталось принять свою смерть, как надлежит принимать ее истинным рыцарям Сечи, — не легкой добычей польских гусар, а во славу казачьего братства.
Оставив небольшой, огражденный повозками лагерь, в котором он обучал своих разведчиков основам пластунского искусства да умению переодеваться и перевоплощаться, Урбач с удивлением осмотрел невесть откуда свалившееся на него пополнение. Всем троим за пятьдесят. Жилистые, морщинистые шеи, исполосованные шрамами и глубокими бороздами морщин, лица, поредевшие чубы-осэлэдци — последнее и единственное отличие, удостоверявшее их принадлежность к степному рыцарскому ордену, к воинской аристократии.
— А мог бы ты втолковать мне попроще: кого собрал, почему привел, а коль уж привел, то почему ко мне? — обратился он.
— С зимников сошлись, султан-паша заморский. Думали, дозимуем свое… А тут война…
— Тебя как в курине твоем сечевом звали, казак?
— Галаганом [34], — ответил предводитель странствующих воинов-полустарцев, еще довольно крепкий мужик с обожженной левой щекой и подозрительным шрамом на челе, очень похожим на изуродованное клеймо. Широкоскулый, со вздернутым подбородком и спокойным взвешенным взглядом, он почему-то сразу же показался Урбачу человеком с крепкими нервами и мужественным нравом.
— Да надежные они вояки. Принимай, принимай, Урбач. Это наши «ангелы смерти», — посоветовал приведший казаков к этому секретному, выстроенному посреди леса лагерю сотник Савур. — Потом спасибо скажешь, что к тебе направил.
Сотник отсалютовал саблей и, лихо развернув коня, умчался редколесьем в сторону основного стана.
— Так мог бы ты втолковать мне, серому рубаке, как-нибудь попроще, за что Савур прозвал вас «ангелами смерти», — обратился Урбач к Галагану.
— А мог бы назвать и «ангелами спасения», — молвил худощавый приземистый сечевик, одетый, как и Галаган, в вывернутый овчиной наружу безрукавный тулуп. И тут же назвал себя. — «Огирем», жеребцом то есть, кличут. Да только отжеребцевал я свое.
— Смерть в постели да во хворях — для казака такая же постыдная, как смерть по атаманскому присуду, — вновь взял слово Галаган. — Одни из нас уходят в монастыри отмаливать неотмаливаемое, другие грешат, пропивая свою старость вместе с последними шароварами и крадеными седлами в шинках, третьи бросаются в первых рядах под татарские сабли. Мы же, грешные, недомученные, сотворив промеж собою совет, решили принять достойную нас и сечевого братства смерть, вводя врагов наших в гетманский блуд.
Урбач очумело повертел головой, пытаясь хотя бы в этот раз пробиться к истинному смыслу его слов, но понять, что такое «гетманский блуд», так и не сумел.
— Видно, что не из сечевиков, — мягко укорил его Огир. — Традиция такая, древняя, как само братство наше. Когда нужно ввести врага в блуд, выбирают охочих, которые бы, поддавшись турку, поляку или татарину… попали ему в руки…
— Обожгло, Огир, обожгло, — подтвердил Урбач. — Теперь кое-то проясняется.
— И там уже, под пытками лютыми, так сераскирам вражьим мозги затемнить, чтобы в страхе они начали думать не о том, как бы казаков изрубить, а как бы самим душу свою спасти.
— Но тут особый талант нужен. Не каждый, даже пытки-мучения приняв, сможет довести это дело до ума, — вклинился третий смертник, назвавшийся Остюком. Возможно, наиболее древний из них, с искореженной кистью левой руки. — Тут ведьмячьим глазом гляди, чтобы врага в блуд ввести, да придурь напускай на себя, как на местечкового юродивого. Чтобы, когда надо, и слезу пустил, и полу халата турецкого поцеловал, и трусом последним у ног мурзы перекопского отползал.
— Правда, хитрость свою потом, так или иначе, а на колу сидя, восхвалять приходится, — завершил за него Галаган. — Но когда видишь, как войско вражье от лжи твоей по степи мечется, в засаду попадая, и на колу плясать хочется, султан-паша заморский.
Урбач усадил всех «ангелов смерти» на ствол поваленного клена, сам уселся на полуистлевший пень напротив них и несколько минут молчал, ни на кого из пришлых не глядя.
— Но вы же понимаете, что такие казаки-смертники нам обязательно понадобятся, — наконец молвил он, исподлобья прохаживаясь пытливым взором по напряженным лицам отставных запорожцев.
— Что ж тут не понять, султан-паша заморский? — спокойно заверил его Галаган.
— И что идти в таком случае придется вам.
— Так ведь на то и обрекаем себя, во спасение всех невысвяченных в храмах святых душ наших и в благодарность тем сечевикам, что полегли во времена прошлые, овеяв нас, потомков, славой своих побед.
— Говоришь ты, отец, как проповедь читаешь. Но война, которую мы затеяли, это вам не налет на польский обоз. Голов и сабель поляжет немало. Поэтому мой вам совет: найдите себе хороший зимник, где каждый курень — что келья монастырская… А еще лучше — идите на волость да осчастливьте осенней радостью трех вдов казачьих.
«Ангелы смерти» красноречиво переглянулись, всем своим видом демонстрируя абсолютное разочарование.
— Видать, не к тому сотнику привел нас Савур, — извиняюще молвил Огир, взглянув сначала на Урбача, а затем на своих товарищей.
— Правду говорят: казак не из сабли и осэлэдця высвячивается, а из традиций Сечи Запорожской, — объяснил Остюк, поднимаясь, ибо дальше ему здесь делать было нечего.
— Нужно идти к гетману Хмелю, — поддержал их Галаган. — Тот хотя бы поймет, о чем мы с ним говорим.
Старые казаки с покровительственной грустью взглянули на Урбача, недовольно покряхтели и, размяв прокуренными пальцами табак в трубках, пошли искать правды у Хмеля, как, на казачий лад, именовали они Хмельницкого.
— Хотел бы я видеть, как кто-нибудь из вас хотя бы пять минут под каленым железом, под обручами или на дыбе продержится! — с вызовом бросил им вслед Урбач.
«Ангелы смерти» остановились и вновь переглянулись. Им показалось, что наконец-то сотник созрел для серьезного разговора. Не спеша, с достоинством вернулись к поваленному клену.
— А вот эти раны Господни, — указал Остюк на изувеченную руку и глубокий шрам, идущий от затылка до сонной артерии, которого Урбач раньше не замечал, — от вдовьих ласк, по-твоему, происходят, что ли?
— Если который из нас не выдержит и умрет под пытками, то умрет, сказав все, что нужно было сказать. Слово смертника — оно, как расплавленная смола, до мозгов прожигает.
— Наверное, так оно и есть, — сдержанно признал его правоту сотник.
А предводитель этих смертников Галаган ничего не стал предполагать и объяснять, уверенно подошел к костру, на котором обволакивался дымом и копотью видавший виды походный котел, извлек из него ветку с раскаленной головешкой и приложил к тыльной стороне ладони. Незаметно подступив поближе к нему, Урбач почувствовал запах жженого тела и с удивлением увидел, что лицо казака остается таким же невозмутимым, как и до этого «самосожжения».
Пожалев «ангела смерти», сотник отвел его руку с головешкой и взглянул на рану. Галаган прожег себя почти до кости, но держался при этом мужественно.
— Простите, отцы-казаки, всяк по себе сапоги меряет. Лично я к огню и прочим пыткам не очень-то охоч, потому и не верится. Но коль уж такие люди у нас появились, мыслю, что нужно нам создать отдельный курень, который будет состоять из «ангелов смерти», характерников, лазутчиков и казачьих лекарей. А чтобы не ошибиться при отборе, каждого желающего стать «ангелом смерти» станем подвергать испытанию кровавой пыткой, огнем и… словом; а еще — способностью на «гетманский блуд».
— Без этого нельзя, — согласился Огир. — Ты уж извини, что Галаган босыми пятками по огню не прошелся. Однако поверь, что он и по жару, как по иерусалимским камням, ступает.
— А ты, Остюк, говоришь, что Савур не к «тому» сотнику привел, султан-паша заморский, — невозмутимо подвел итог их недолгим переговорам Галаган, не желая, чтобы побратимы и дальше топтались по его ранам и достоинствам. — Сотник как раз тот, который нужен, просто мы к нему не с той стороны подступались.
— Сотник несомненно «тот», в этом можете не сомневаться, — многозначительно пообещал Урбач. — Была бы спина казачья пошире, а мастера «дарить красные ленты» [35] в польском лагере всегда найдутся.
13
— Ну что там, полковник, происходит? Что за Дюнкерк выстроили на нашем пути поляки?! — неожиданно появился в повозочном штабном лагере гетман.
— Крепость мощная, — ответил Кривонос. — Но в том-то и напрасность всего их труда, что возвели ее на нашем пути.
— После нас на этой земле должны оставаться только те крепости, которые покорились нам или которые возвели мы сами.
— Так оно в действительности и будет.
Часть Корсунского полка прибыла сюда, к изгибу Роси, на рассвете. Вторая часть, в которую входила почти вся артиллерия войска и несколько сотен «повозочных» пехотинцев, еще только подходила вслед за Хмельницким.
Таким образом, гетман выигрывал время. Пока вся его армия подойдет сюда, корсунцы Кривоноса уже охватят польский лагерь огромной подковой, перекроют подступы к нему, начнут непрерывно терзать обстрелами и имитациями атак.
К тому же Хмельницкий стремился все сделать так, чтобы к прибытию татарских войск Ислам-Гирея его армия была, по существу, готовой к штурму, а значит, все подступы к польскому лагерю, как и сами укрепления, хорошо изучены и пристреляны.
— А что Корсунь? Надо бы послать тайных эмиссаров и предложить корсунцам тайно, прямо в городе, создать повстанческое ополчение. Даже если они сумеют выставить хотя бы две сотни…
— Они уже не смогут выставить ни одной десятки, — напомнил гетману Кривонос.
— Не может быть! Неужели правда, что поляки поглумились над всем городом?
— Да. Правда это, правда. Нет больше нашего древнего Корсуня, гетман.
Хмельницкий сдвинул брови к переносице и даже потянул носом воздух, пытаясь определить, не приложился ли его отчаянный полковник после трудного перехода.
— Нет больше Корсуня, гетман, нет. Потоцкий разграбил его и сжег.
— Весь город? — недоверчиво спросил Хмельницкий.
— Дотла. Монголы — и те, наверное, так не сжигали. Словно три орды по нему прошли. Я тоже не поверил разведчикам, поэтому сам ночью прорывался к его северным окрестностям. В подзорной трубе — почерневшие дымоходы и две колокольни каменные. Все остальное — в руинах и пепелищах.
Хмельницкий растерянно посмотрел на сопровождавших его Ганжу и Лютая, словно бы надеялся, что сказанное Кривоносом — злая шутка и что эти два полковника в сговоре с ним. Но как только слегка опомнился от этой страшной новости, коротко, зло рассмеялся. И смех его был похож на оскал хищника, который понял, в какую западню загнала сама себя его жертва.
— Он что, действительно сжег весь Корсунь? — едва слышно спросил он Кривоноса. — Дотла? И сделано это было по приказу самого Потоцкого?
— С беглыми корсунцами беседовал. Около трех сотен их уже вон там, за овражком. Без оружия пока еще, но уже при войске.
Хмельницкий опять воинственно рассмеялся.
— Оказывается, я не только отобрал у этого королевского вояки сына, но и остатки разума. Полковник, — обратился к Кривоносу. — И вы тоже, — к Ганже и Лютаю, — собрать всех корсунцев, которые обнаружатся в нашем войске. Они должны знать, что произошло. Все, кто из Киевского воеводства и кто хоть раз побывал в этом прекрасном городе, должны знать, как повели себя шляхтичи с их городом. Скажи, что именно корсунцам уступаю право первыми пойти на приступ лагеря этого озверевшего ляха, — указал рукой в сторону видневшегося вдали польского стана. — Они первыми имеют право ударить по врагу и ворваться в его лагерь, воины Христа и Сечи.
— Так оно и будет: они ударят первыми! — прокричал в ответ Кривонос.
— Откуда лучше всего осмотреть хотя бы часть польского лагеря?
— Вон с той возвышенности, — кивнул полковник в сторону разрытого холма, на котором казаки успели соорудить некое подобие сторожевой вышки. — В подзорную трубу добрая часть его — будто на ладони.
— Под вечер приблизимся к самому лагерю, присмотримся, прикинем, что к чему…
— Там, у вышки, один наш умелец уже план укрепления начертил. Со всеми его редутами, артиллерийскими заставами и малыми пехотными лагерями прикрытия.
— Неужели картограф объявился? Кто такой? Беречь этого писаря. Есть своя армия, значит, должны быть и свой картограф, свой фортификатор, каковым для поляков является француз де Боплан. А там, глядишь, и мы тоже на стоящего картографа-француза разживемся, если только он еще понадобится.
— Господин командующий, — в последнее время Савур тоже обращался к нему только так: «командующий». — Артиллерия подходит.
— Ну-ну, посмотрим, как она подходит… — забыл на какое-то время о вышке и земляной карте.
Остановив коня на небольшой круче, Хмельницкий несколько минут наблюдал, как мимо ее подножия довольно быстро продвигались водруженные на лафеты орудия. Полюбоваться этим необычным зрелищем сбежались не только офицеры, но и многие рядовые казаки.
Еще там, под Желтыми Водами, гетман с горечью наблюдал за бессильной неповоротливостью тех нескольких орудий, которыми обладало тогда его войско. Он понимал, что в большинстве случаев ему придется сражаться не на равнинах, а в лесу, в плавнях, в изрезанных оврагами урочищах. И его совершенно не устраивало, что для того, чтобы хоть на несколько метров перевезти пушки, элементарно сменить позицию, приходилось подгонять повозки, погружать на них тяжелые орудия, перевозить, вновь снимать и устанавливать. А тем временем гибли под обстрелом или уносились куда-то, подальше от позиций, кони. Разносило сами повозки. Да и куда с этими повозками заберешься?
Немного поразмыслив, он, на удивление бомбардиров, приказал для всех своих двадцати шести орудий соорудить прочные двухколесные возки, к которым орудия прикреплялись намертво и в которые впрягали всего одну лошадь.
Вначале плотники и пушкари действительно восприняли этот приказ гетмана как чудачество. Но на первом же учении три первых, поставленные на такие лафеты, орудия показали, что из тяжелой, неповоротливой обузы для войска артиллерия вдруг превратилась в маневренное дополнение к пехоте и коннице, соединив в себе качества обоих видов войск. Не создавая громоздких обозов, старшие орудий садились на оседланных тягловых коней и трусцой семенили вслед за кавалерией, заводя орудия в самые труднодоступные места и быстро меняя позиции.
Но главное, теперь, когда орудия оказались закрепленными на своеобразных колесницах, бомбардиры могли быстро перекатывать их с места на место вручную, не теряя времени на конские упряжки и не давая возможности хитромудрым в артиллерийских делах пруссакам и саксонцам пристреливаться по их позициям. На повозках теперь подвозили только ядра и порох. Да и то по два заряда казаки умудрялись подвозить прямо на лафетах.
Создав вокруг своих двадцати шести орудий отряд из трехсот пехотинцев и полтысячи кавалеристов, Хмельницкий таким образом ухитрился сформировать отдельный, довольно маневренный и неплохо защищенный артиллерийский полуполк, который тоже отдал под командование Кривоносу.
— А ведь у поляков такой артиллерии нет и не скоро появится, — восторженно потер руки Ганжа, который больше всех ворчал по поводу «чудачеств гетмана». — Может, вообще до сих пор никто в мире не догадывался ставить орудия на такие возки.
— У поляков нет, это точно, — согласился Хмельницкий. — В мире — не знаю. Не может быть, чтобы не додумались [36]. Наверняка есть. В любом случае теперь у нас пойдет иная война. Совершенно иная, — самодовольно провел взглядом последнее орудие, к лафету которого была прицеплена еще и двухколесная повозка с зарядами. — И надо бы сделать так, чтобы в их лагере как можно позже узнали о нашей плотницкой хитрости.
14
Прежде чем подняться на сторожевую вышку, Хмельницкий внимательно осмотрел план польского лагеря, начертанный на большом взрыхленном клочке холма. Даже беглого взгляда на него было достаточно, чтобы убедиться: взять штурмом такой лагерь будет очень непросто. Овладеть им при численности его войска можно разве что после длительной осады. Но теперь он действовал не в Диком поле, а в Киевском воеводстве. Рядом — большие города и большие польские гарнизоны. Пока повстанческие войска будут осаждать Потоцкого, на помощь ему придут полки во главе с Вишневецким, Калнишевским, Заславским и еще бог знает с кем.
— Кто чертил? — поинтересовался Хмельницкий у командира дозора.
— Сотник Урбач.
— Неужели и такой талант в нем открылся? — покачал головой гетман. — Где он сейчас?
— Где-то там, возле польских укреплений. Целыми днями возле них прогуливается, поляки его за своего принимают.
— Такие нам тоже нужны, чтобы враги за своих принимали.
Осмотр укреплений в подзорную трубу оказался еще более угнетающим. В этот раз поляки потрудились, как никогда раньше. Очевидно, заставили потрудиться и крестьян из ближайших сел, и свою обозную челядь. С трех сторон лагерь ограждался огромными окопами и валами. Как потом выяснилось, поляки прикрылись и старинным валом, оставшимся здесь с древних времен. С четвертой стороны стан Потоцкого очерчивала излучина реки Рось, берега которой тоже были укреплены. На подходах к лагерю они устроили небольшие укрепления, гарнизоны которых состояли из артиллерии и пехоты и которые заставляли наступающие силы распыляться, рассекая их редутами и окопами.
Опустив подзорную трубу, Хмельницкий устало присел на небольшую скамеечку дозорного и, привалившись спиной к поперечине, несколько минут сидел с закрытыми глазами, словно пытался надолго сохранить в памяти внешний вид этой полевой крепости.
«Но я не могу положить здесь все свое войско, — угнетенно пробормотал он. — Не для того собирал его по всей Украине, чтобы под стенами сожженного Корсуня уложить его по валам и окопным западням. В отличие от Потоцкого мне неоткуда ждать подкрепления. Никакой сейм, никакой “римский сенат” свежие легионы мне сюда не пришлет».
Он просидел так еще около часа. «Римский сенат» помочь ему действительно не мог, тем не менее за это время к лагерю повстанческой армии прибыли еще один полк и довольно большой обоз. Поляки, наблюдавшие за встречей подкрепления со своих сторожевых вышек, уже наверняка доложили об этом Потоцкому, и тот занервничал.
«Человек, сооружавший такую полевую цитадель, — молвил себе Хмельницкий, — и помышлять не мог о том, чтобы нападать. Испугавшись молвы о Желтых Водах, коронный гетман вгрызался в землю с одной-единственной целью — отсидеться, устоять. Он конечно же уверен, что, взбодренный первой победой, я лихо поведу свою конницу на его валы. — Спускаясь с вышки, Хмельницкий почувствовал, что теперь воспринимает лагерь Потоцкого совершенно по-иному. Поскольку оценивает его не как солдат, которому предстоит штурмовать, а как полководец, неожиданно почувствовавший свое решительное превосходство, правда, пока еще только моральное. — Они там, в лагере, еще не дождавшись полного подхода моей армии, уже чувствуют себя окруженными, замкнутыми и молят Господа, чтобы я не тянул с атакой. А мои воины ощущают за собой вольницу Дикого поля, холмистое приволье степи, свободу вон того леса, что чуть правее лагеря, кочевую свободу. А значит, условия этого противостояния вновь, как и под Желтыми Водами, диктовать буду я».
— Савур, — подозвал он сотника, — где сейчас Урбач?
— Только что вернулся в лагерь. Сейчас разыщу.
— Советуйтесь, бейтесь головами о землю, но найдите мне казака-добровольца.
— Который бы решился пойти во вражеский стан? — скосил Савур глаза на польский лагерь.
— Причем нужно сделать так, чтобы поляки захватили его неподалеку от лагеря, как бы во время очередной вылазки казаков. Было бы неплохо, если бы он уже когда-нибудь испытывал себя пытками…
— Словом, нужен очередной «ангел смерти». Я называю таких людей «ангелами смерти», каковые они и есть на самом деле.
— Вижу, ты всех своих лазутчиков называешь «ангелами смерти». Не запугай этими словами человека.
— Смертник, отдающий себя на такие муки, не должен знать страха.
— Неправда, такого, не знающего страха, мы не найдем, даже не пытайся. Просто мы должны найти такого, который бы, затаив в душе страх, согласен будет все стерпеть и погибнуть во имя свободы Украины. Во имя ее свободы.
— А если никто не согласится?
— Почему? — резко оглянулся на сотника Богдан Хмельницкий. — Такого не может быть.
— На тот случай, если никто… пойду я.
— Здесь нужен опытный казак. Уверенный в себе, знающий польский язык, умеющий сыграть так, чтобы поляки поверили ему. И вообще давай договоримся: твое время еще наступит, «ангел смерти». Пока что ты нужен мне здесь.
Поздним вечером Хмельницкий собрал в своем шатре полковников и нескольких сотников. Совет был недолгим. Вопреки настойчивым заклинаниям Кривоноса по поводу того, чтобы подтянуть все войско и штурмовать поляков, пока они окончательно не зарылись в землю, гетман провел свою линию поведения перед этим сражением. Во-первых, нужно сделать все возможное, чтобы выманить поляков из лагеря. Во-вторых, он приказал вновь прибывшему полку остановиться лагерем чуть поодаль, у леса, и завтра утром имитировать приход новых небольших отрядов. Причем подходить они должны с разных концов, а встречать их следует с ликованием. Потоцкий с душевным трепетом будет следить за тем, как армия восставших все пополняется и пополняется.
— Но какие бы несуществующие полки мы сюда ни приводили, — усомнился Кривонос, — на поляков это не подействует. Провизии у них много. Гонцы Потоцкого наверняка рыщут сейчас по соседним воеводствам, собирая подкрепление. И вообще мне не верится, чтобы после коварства, которым мы выманили гарнизон лагеря под Желтыми Водами, поляки вновь купились на него.
— Страшные события у Желтых Вод принадлежат тому военному опыту, который погибшее войско обычно уносит с собой на тот свет. В лагере Потоцкого учить на нем воинственных гетманов некому. На рассвете начинайте закладывать наш лагерь. Только не очень укрепляйте его. Пусть поляки видят, что возводим его не для обороны, а для ночного прикрытия от залетных разъездов. А в общем — готовимся к штурму.
— Разве что поляки согласны трижды попадаться на одну и ту же нашу хитрость… — неохотно согласился первый полковник войска с планом Хмельницкого.
Отпуская офицеров, Хмельницкий попросил остаться капитана Рунштадта. Вопреки опасениям Кривоноса, всегда отличавшегося особым недоверием к полякам и прочим иностранцам, этот германец служил честно, и Хмельницкий решил столь же честным оставаться и по отношению к нему.
— Я не могу вечно держать вас, капитан, в своей армии то ли в роли пленного, то ли наемника, не получающего надлежащего жалования.
— Справедливое замечание, — согласился капитан. — Хотя теперь мне кажется, что тогда, в первой схватке у Днепра, я перешел к вам добровольно.
— Это не совсем так, — спокойно парировал Хмельницкий, — и мы оба помним это. Вас вынудили обстоятельства. Но теперь я хочу, чтобы вы знали: если в сражении за этот лагерь мы одержим победу — наградой вам будет полная свобода. Вы сможете взять с собой пятерых солдат-германцев, которых выберете сами, и покинуть мой стан. Единственное условие, под честь прусского офицера: вы сразу же направитесь отсюда в Бар или в Каменец. То есть не присоединитесь к польской армии, которая действует против меня. Не присоединитесь по крайней мере в ближайшие два месяца.
— Понятно, вам не хочется, чтобы поляки вновь получали опытных артиллеристов, — сдержанно объяснил вместо него Рунштадт.
— Считаете мои условия несправедливыми? Неприемлемыми? Капитан немного помолчал, но вовсе не потому, что принялся взвешивать на весах своей высокой морали степень справедливости условий, продиктованных полководцем-победителем.
— Извините, господин командующий, но я не смогу отказаться от этой щедрой награды.
— И не следует.
— Уже хотя бы потому, что, отказавшись от нее, почувствую себя рабом, возлюбившим сытную клетку и золотые кандалы.
— Выбор пяти солдат за вами, — вежливо напомнил Хмельницкий. — Постарайтесь уводить не самых лучших бомбардиров. Они ведь нужны вам только для сопровождения, чтобы не оставлять вас вне нашего военного братства наедине с опасной дорогой.
— В таком случае позвольте сегодня же ночью отсалютовать вам в честь своей свободы. Всего по два ядра на орудие. Но бить станем по кострам, подкравшись к самому лагерю. Потери будут такими, что до утра поляки так и не смогут прийти в себя. А главное, они потеряют покой не только в эту, но и в последующие ночи.
— Согласен, капитан. Только не отдайте полякам ни одного орудия.
— Мы, германцы, господин командующий, остаемся солдатами, независимо от того, кому служим. Клянусь честью прусского офицера. Начну, как только стемнеет. Вначале отправьте под лагерь усиленные разъезды, способные распугать лазутчиков Потоцкого.
Хмельницкий сам наблюдал, как под черно-синей завесой позднего вечера двухколесные артиллерийские повозки без лишнего шума, по одной, уходили в сторону польского стана. Прежде чем вывести эти десять орудий за обводной вал, фон Рунштадт и его заместитель лейтенант Голбах лично осмотрели подступы к лагерю и вешками наметили место каждого орудия, оставив у вешек по десятку казаков-пластунов, пытавшихся никак не выдавать своего присутствия. Эти же казаки должны были потом усилить охрану орудий.
Поняв, что казаки не собираются с ходу штурмовать их лагерь, поляки даже не попытались обезопасить себя крупными разъездами, усилив только охрану на валах. Поэтому обстрел оказался совершенно неожиданным для них. Орудия возникали в тех местах, где еще несколько минут назад их не было. Они били с разных сторон. Причем ядра довольно точно ложились по сосредоточению костров и по обозу.
Пять орудий капитана своими меткими выстрелами с ближайшего холма, почти прямой наводкой, буквально растерзали недавно прибывший продовольственный обоз коронного войска, повергнув польских командиров в абсолютное уныние. Тем более что еще до наступления темноты разведка донесла: подступы к лагерю с севера уже перекрыты казачьими заставами и разъездами татар. И что к казакам подходит татарская орда, которая, судя по всему, тоже расположится где-то на северо-западе их стана.
Пока польские бомбардиры засекали расположение казачьих орудий, пока пристреливались, оказывалось, что били они уже по пустым местам. Ночью капитан выстрелил всего лишь двадцать ядер. Но утром, как только поляки угомонились и попытались забыться в коротком сне, вновь словно из-под земли появились и ударили по ним орудия. И вновь — по обозу и шатрам.
15
Миновав заставу, Хмельницкий спустился по узкой тропинке, на которой конь обдирал себе бока о кусты шиповника, в небольшую низину, посреди которой, в густой роще, расположился тайный лагерь Урбача. То, что здесь творилось, похоже было на таинство некоего языческого ритуала, а сами собравшиеся в лагере напоминали секту самоистязателей, забившихся в лесные дебри, подальше от православных глаз и мирских занятий.
— Так, говоришь, казаков всего шесть тысяч, а татар и вовсе нет? — «допрашивал» Урбач «ангела смерти», в роли которого выступал доброволец Галаган, поднося к его лицу зажатый в кузнечных клещах раскаленный шворень.
— Не шесть, я говорил, а шестнадцать. Пошлите своих пластунов, пусть лучше меня посчитают их, султан-паша заморский.
— Но татар-то нет. Мои разведчики обшарили все окрестности.
— Они чуть дальше, за леском. Их восемь тысяч. И привел их Тугай-бей, перекопский мурза.
Командующий минует «пленного» и подходит к высокому кресту, на котором распят, то есть привязан веревками, другой «ангел смерти». Хмельницкий узнал его: старый казак, десять лет проведший на турецких галерах. Кличут Огирем.
Гетман какое-то время молча смотрел на него. Так продолжалось до тех пор, пока мученик не открыл глаза и, сдерживая мучительную боль в руках и ногах, спросил:
— Не хочешь помолиться за меня, атаман? Когда еще тебе придется творить молитвы перед ожившим Иисусом на украинской Голгофе?
— И давно ты «блаженствуешь» на этом кресте?
— Да, считай, с восхода солнца.
Командующий посмотрел на поднявшееся к полудню холодное весеннее солнце, на оголенное, посиневшее от холода тело пленника, на котором старые рубцы от турецких плеток перемежевывались с рубцами, безжалостно оставленными его новоявленными «палачами». Теми самыми, что сидят теперь в нескольких метрах от распятия и на глазах у мученика аппетитно поедают свежее, в три пальца, сало…
— Так что, этот ирод, сотник, действительно устраивает вам такие вот муки?
— Устраивает, гетман, устраивает. Может, сам повисишь тут вместо меня, а то душа на волю просится, а тело — в кусты. Не сдержусь.
— Шел бы ты к черту, — проворчал командующий под хохот заржавших палачей. — Сотник, где ты?! Урбача сюда!
Урбач подходит, вопросительно смотрит вначале на командующего, затем на распятого. Лицо его при этом сохраняет невозмутимость, достойную лучших парижских палачей, которые, по слухам, всегда славились своей жестокостью и хладнокровием.
— Что, не выдерживает душа твоя многогрешная? — сурово уставился он на Огира. — Это только начало. Еще увидим, какие псалмы ты нам запоешь, когда по углям водить станем, пса-ломщик!
— Что же ты, ирод некрещеный, над казаками зверствуешь так, как никогда ни один казак ни над одним пленным своим не зверствовал?
— Так ведь не о казаках сейчас речь. Мои «ангелы смерти» проходят сейчас через то, через что обычно проходят поляки, допрашивая наших пленных.
Хмельницкий задумчиво взглянул на привязанного к неотесанному бревну, исполосованного плетьми Остюка, и глаза его вновь наполнились гневом.
— Ты что же, хочешь, чтобы казаки за эти муки, принятые их побратимами, нас с тобой пораспинали?
— Какой им смысл распинать нас? Поскольку мы вряд ли выдержим, то и наслаждения они не получат никакого. А вот эти «ангелы смерти» под любыми пытками такие псалмы поют, что сам начинаю верить всему, что они несут. И про турок, и про татар, и про войско наше в двести тысяч, которое завтра ночью выступает, чтобы идти походом на Умань. Иногда сам начинаю сомневаться: вдруг действительно нас уже двести тысяч и в полночь выступаем на Умань.
— Чепуха! Попав в плен, любой казак выдержит любые пытки. Так было испокон веков. Там казаку сам Бог велел изворачиваться и лгать, ибо ложь эта — святая. Но зачем же ты сейчас из этих людей ихнюю же ложь да вместе с жилами? Чтобы, на страдания их глядя, душу услаждать? Ну-ка, немедленно отвяжи обоих!
— Этих отвязать-то можно, — не спешит выполнять его приказ Урбач. — Но тогда придется распинать и жечь каленым железом других. А не так много у нас в войске найдется людей, готовых добровольно принять муки ради «гетманского блуда». Но еще меньше таких, которые под пытками умеют этот блуд сотворять. Этих с распятий поснимаю — других придется возводить. Каждый день должен находиться кто-то, кто страдал бы вот так за прегрешения всех нас. Вот такие псалмы.
— Да я сейчас тебя самого вздерну, «псаломщик» чертов! — почти задыхаясь, приближается к нему гетман, хватаясь за саблю. — Или изрублю на их глазах.
— Одним «ангелом смерти» в твоем войске станет меньше, — пожимает плечами Урбач, однако мучеников своим помощникам-палачам все же приказывает освободить.
Еще какое-то время они вместе обходят тайный лагерь «ангелов смерти». Хмельницкий в нем впервые. Он знал, что Урбач создал его, что особая «сотня Лаврина» движется отдельным обозом и располагается чуть в стороне от войска, на ближайшем зимнике, или в лесу. Подступы к этому лагерю всегда тщательно охраняются даже от своих, а разговоры о том, что в нем происходит, пресекаются под страхом смерти.
Гетман давно ведал обо всем этом, однако в лагерь попал впервые. Не только для того, чтобы лично убедиться, что все, о чем рассказывал Савур, на самом деле происходит, но и поговорить с Урбачем по всяким войсковым и государственным делам.
— Пленных ты допрашивал? — немного успокоился Хмельницкий, когда они уединились в шалаше сотника, соединенном переходом с другим, еще более просторным шалашом, в котором, по традиции, должны были находиться те, кто вызвался идти на очередное задание.
— Они говорят правду. Идти против нас походом Потоцкий не решится. Слишком уж все они там, в польском штабе, напуганы разгромом под Желтыми Водами. К тому же гибель молодого графа…
— Неправда, гибель молодого графа не может остановить коронного гетмана Потоцкого. Если только он все еще остается тем Потоцким, которого я когда-то знал.
— Война меняет характеры полководцев точно так же, как характеры полководцев меняют характер самой войны.
Услышав это, Хмельницкий посмотрел на Урбача с искренним уважением. Были мгновения, когда он порывался спросить, кого из полководцев сотник цитирует, но воздержался. Он знал, что Урбач возит с собой книги на древнерусском, польском и французском языках, а также писанные на латыни. Но знал также и то, что в отличие от многих ученых и начитанных почти никогда не прибегал к цитатам. Человек, способный оплодотворить своей мыслью любой житейский афоризм, он просто стеснялся пользоваться чужими плодами. И то, что сейчас на самодельном столике Урбача лежала книга Мишеля Сюргаде «Тайны иезуитского ордена», в которой были изложены — Хмельницкий уже просматривал ее — основы разведки, секретной дипломатии и политического террора этого ордена, еще ни о чем не говорило.
— Мне уже приходилось слышать о твоей тайной сотне, которую полковник Ганжа содержит в большом секрете, пряча даже от меня.
— Видно, плохо прячет, если разговоры дошли до вас, господин командующий, — Урбач решил обращаться к нему так же, как обращались Карадаг-бей и прусский офицер Рунштадт. — Если мы хотим чего-то достичь в тайных сражениях во дворцах правителей Варшавы, Москвы, Стамбула, Бахчисарая, нам придется язык вырывать у каждого, кто об этой нашей школе и сотне говорит, и отрезать уши всякому, кто это выслушивает.
— Так что это у тебя за иезуитская школа такая? — кивнул Хмельницкий в сторону проходивших мимо входа казаков-палачей, мирно беседовавших с недавним мучеником Галаганом.
Прежде чем что-либо ответить, Урбач подошел к небольшому сундучку и извлек из него парик, который трудно было отличить от натурального скальпа: выложил на стол несколько видов усов, бород и бородок, какую-то странную деревянную трубочку, с помощью которой, как он объяснил, легко подслушивать, находясь даже через толстую стену от беседовавших. Кинжалы с тайниками в рукоятях, в которых помещались небольшие записки. Золоченую серьгу, в створке которой содержался яд…
— Это пока что все, что удалось собрать. Но ведь я только недавно начал заниматься этим.
— Сам, без моего приказа, — упрекнул его Хмельницкий.
— Без. Но думаю о том же, о чем думаете вы, командующий, — о судьбе будущей украинской державы. Каждый должен заниматься тем, чем ему велено заниматься свыше. Вы будете командовать полками и громить врага на полях сражений. Я же буду устраивать эти поля сражения во дворцах королей. Засылать туда своих агентов; иметь свои «языки» и «уши» везде, где только можно. Знать обо всем, что говорится об Украине и что замышляется против нее. И делать так, чтобы правителями вражеских стран было задумано то, что задумано здесь нами.
— Далеко метишь.
— Не следует обольщаться, господин командующий. Как только к нам придут первые большие победы, такие, как под Желтыми Водами, вслед за ними придут интриги. К вам подошлют как минимум двадцать убийц. Вас будут подкупать и совращать через послов и женщин. Вам станут подсыпать яд любовницы и кумовья. Польский король за вашей спиной будет сговариваться с турецким султаном. Крымскому хану будут обещаны сотни тысяч невольников из Украины, в придачу с вашими собственными имениями, только бы он отступился от вас. Москва захочет делить наши земли с Польшей, а великий князь литовский уже сегодня посматривает на исконно украинские края, такие, как Волынь и Полесье. Я могу уйти. Вы можете прогнать или казнить меня. Однако на мое место неминуемо должен будет прийти точно такой же Урбач, чтобы начать все сначала, возможно, не настолько умело, как это получается у меня.
Сотник еще долго говорил о том, как налажены подобные службы при дворцах Франции, Испании, Польши. О том, что срочно нужно наладить свою разведку и контрразведку [37]. Что нужно подбирать надежных людей не только среди своих, но и в стане врага, превращая их во врагов наших врагов.
* * *
Хмельницкий выслушал его, не перебивая, давая возможность выговориться. Гетман, конечно, знал куда больше о школе «ангелов смерти», нежели кто-либо мог предположить. Однако и Урбач тоже знал, что Хмельницкий внимательно следит за становлением его секретной школы, и если до поры до времени не вмешивался и не мешал, значит, поддерживал. Но оба понимали, что рано или поздно им нужно встретиться, выяснить позиции друг друга и решить, как быть дальше.
— Сколько эмиссаров ты послал в украинские воеводства Польши после Желтых Вод?
— Сорок семь. Ими стали те, что недавно прибыл к нам, кому легко можно вернуться в свои города и селения. Причем среди них — немало шляхтичей, учеников школ различных братств, поскольку таким удобнее проникать во дворцы графов, имения старост и подстарост. Легче скрывать, что они связаны с армией Хмельницкого.
— Мудро. Чувствую, тебя сам Бог послал. Хотя вначале подозревал, что и самого тебя подослали поляки. Очень подозревал, — Хмельницкий внимательно смерил Урбача вопросительным взглядом и не спешил продолжить разговор.
— Вы были недалеки от правды. Меня действительно подослали поляки.
Хмельницкий отшатнулся и замер.
— Не зная, правда, что, в свою очередь, им подсунул меня полковник Сирко.
— Подожди, подожди, не сыпь словами, как горохом. Кто именно тебя подослал ко мне: Потоцкий, Кронный Карлик, Калиновский?
— Бери выше, гетман, подсылал сам король как своего личного агента.
— Неужели сам король?! — не способен был скрыть своего удивления Хмельницкий. — Не может такого быть!
Урбач понимающе улыбнулся: именно такой реакции он и ожидал.
— Нет, приемом монарх меня не удостаивал. Подготовкой моей занимался господин Вуйцеховский, он же — Коронный Карлик. После того как гетман Барабаш и полковник Ильяш предали короля и вместе со всей реестровой старшиной переметнулись на сторону Потоцкого и Калиновского…
— Они действительно настроены против короля?
— Два враждующих лагеря. Почти как мы и Стефан Потоцкий под Желтыми Водами. Но лишь после того, как король понял, что многие офицеры реестра предали его и что полковник Хмельницкий остался единственным надежным союзником в Украине, он по-настоящему начал ценить вашу верность.
Хмельницкий недовольно покряхтел. Ему не хотелось бы сейчас дискутировать по поводу верности и клятвоотступничества. Особенно когда речь идет о его отношениях с польским королем.
Однако Урбач тоже не стремился обострять разговор. Не время было обсуждать философские и морально-этические стороны отношений короля и гетмана. Особенно если сам гетман предпочитает умалчивать о них.
— Так с какой же целью ты был подослан ко мне?
— Вначале не к вам, а к коронному гетману Потоцкому. Но мне не хотелось долго задерживаться при его ставке, поэтому я оказался среди реестровиков Барабаша. Этот негодяй интересовал меня куда больше. И, если помните, господин командующий, перешел я на вашу сторону сразу с тремя десятками реестровиков, которых успел переманить.
— Но цель, каковой была цель твоей засылки в наш лагерь? — нетерпеливо подбодрил его гетман.
— Помогать вам, а значит — и королю Польши. Но это не все. Коронный Карлик и я — вот те люди, благодаря которым коронный гетман, а также король и королева, — а в последнее время Мария Гонзага все настойчивее вмешивается в дела Короны, — будут иметь прямой, недипломатический доступ к вам, командующему повстанцами. Но я сразу же предупредил, что не стану выполнять роль шпиона и что о моей миссии может знать только Коронный Карлик, и никто больше. С этим согласились. Шпионов они подыщут без меня.
— Вот оно все как закручено! — поднявшись, Хмельницкий несколько минут мрачно вышагивал по обоим соединенным шалашам. — Вот уж не ожидал! В таком случае еще один вопрос: зачем ты признался мне? Ведь за такое признание я запросто могу повесить тебя за ноги.
— Не можете, поскольку это совершенно бессмысленно. Вы казнили бы меня, если бы оказались обычным атаманом восставших, которые поднялись, чтобы панов попугать да самим погулять вволю. Но такому я бы не сознавался и вообще такому не служил бы. Вы же намерены создать новую державу, а значит, вам придется иметь дела со многими правителями. Следовательно, нужны такие полковники, как я. Нет-нет, я не оговорился, господин командующий, полковники, а не сотники.
Хмельницкого слегка покоробило от назойливости сотника, но и на сей раз он вынужден был признать, что Урбач прав: в чине его надо бы повысить.
— Где ты учился и кто ты на самом деле?
— Украинский шляхтич. Мой отец служил в Литве и там же получил от великого князя небольшое имение. Еще одно наше имение — под Гадячем, где нас знают как Урбачинских или, по-сельскому, Урбачей. Науки познавал вначале в Киевской братской школе, а затем…
— Но ведь я тоже учился в Киевской братской.
— Только чуть пораньше, — улыбнулся Урбач. — В польскую иезуитскую школу в Ярославле, где вы продолжили свое учение, мне попасть не удалось. Зато обучался в Генуе, при одном местном монастыре, потом — в Швеции. Но недолго. Не тянуло меня ни к церковному служению, ни к военному.
— А мне почему-то помнилось, что ты набирался ума в Варшаве.
— Разным людям приходится говорить разное, в зависимости от их интереса. Поэтому услышать обо мне можно всякое. Но вам я сказал правду. Нам вместе служить Украине, вместе сотворять свои великие тайны и не менее великие державные грехи. Поэтому я хочу, чтобы вы, господин командующий, знали: перед вами человек, который никогда не предаст и которому можете довериться, как никому другому.
Хмельницкий все еще прохаживался по шалашу и задумчиво кивал, затем снова сел.
— У тебя выпить что-нибудь есть?
— Поляки стали поговаривать, что пьете вы все больше и больше.
— Для того чтобы знать, что поляки радуются моему похмелью, тайные школы не нужны.
— И для этого тоже. Нам должно быть известно все, вплоть до того, на какой ноге у Потоцкого свежая мозоль. Сейчас я распоряжусь, и мы немного перекусим.
* * *
Урбач появился минут через пять, и вслед за ним вошел молодой джура с корзинкой, в которой были кувшинчик с вином, немного сала и кусок кровяной колбасы, от которой за версту веяло крутым чесночным духом.
— И чем же эти сорок с лишним эмиссаров занимаются Все те, которых ты вроде бы разослал после битвы под Желтыми Водами? Есть от них хоть какой-то прок? А то я ведь и от себя посылал.
— Знаю.
Урбач наполнил небольшие глиняные кубки вином, разложил по мисочкам куски мяса, колбасы и рыбы.
— Главное в том, что они, как ошалелые, разносят весть о нашей победе под Желтыми Водами.
— И все?
— Они творят легенды о нашей победе, преувеличивая ее до погрома рыцарей под Грюнвальдом.
— Лучше бы они подбирали для нас повстанцев да шли в народ с моими универсалами.
— Самый убедительный универсал — ошеломляющая легенда о непобедимом Хмельницком. Народ устал от мелких атаманов и кровавых польских расправ. Сейчас Украине нужен свой герой, свой вождь, своя надежда. Ей нужен удачливый полководец, за которым не грех пойти и за которого не обидно умереть. Есть у нас такой полководец?
Хмельницкий молча смаковал вино. Оно показалось ему слишком терпким и сладковато-приторным. Он же любил с кислинкой. И совершенно не терпел водки. Но о водке Урбач знал, о кислинке пока не доложили.
— Нет у нас пока такого полководца, — ответил сотник на собственный вопрос.
Гетман насупился, но промолчал.
— После Сагайдачного — нет. Но сам собой он не появится. Его следует создавать, творить его образ в народной молве. В страхе, зарождаемом в графских покоях и королевских дворах. Этот Божий образ спасителя Украины еще только нужно слепить из крови жестоких сражений, гимнов побед и полуправды поражений. Вот этим-то я и займусь, господин командующий. С вашего позволения, конечно.
— Сколько человек обучается сейчас в твоей школе?
— Восемьдесят шесть. И еще десять человек — особо. Те, которым предстоит идти в Варшаву и Москву, пробиваться к тронам правителей, льстить и подкупать. Но они не здесь, а на хуторе. Стараюсь, чтобы их как можно реже видели даже в моем лесном стане.
Хмельницкий вновь отпил вина. Сам долил себе, и в этот раз опустошил бокал залпом.
Урбач покачал головой, не пытаясь скрывать своего недовольства.
— Что ж, сотник, точнее, уже полковник… — гетман выдержал надлежащую паузу и решительно продолжил: — Казнить я тебя не стану, даже зная, что ты — подосланный. Хотя следовало бы.
— Если тебя милуют у подножия плахи — это тоже награда, достойная королевской милости.
16
— Я не стану казнить тебя, — повторил Хмельницкий, выходя из куреня и жадно вдыхая влажный степной воздух. Весна то подступала к северным окраинам Дикого поля, то откатывалась назад, к морским берегам. Приход ее казался гетману мучительно долгим и бесстрастным. — Но если когда-нибудь, хотя бы нюхом, учую измену, хотя бы учую ее…
— Это не разговор, господин командующий. Возможность учуять мою измену вам предоставят хоть завтра, — решительно возразил Урбач. — Нас будут стравливать и натравливать друг на друга. Поэтому давайте сразу же исключим всякое подозрение, если только мы хотим защитить себя от наемных убийц и лазутчиков наших недругов.
Хмельницкому подвели коня, однако Урбач почувствовал, что разговор еще не закончен, и велел подать своего. Хмельницкий обратил внимание, что у Урбача светло-буланый белокопытый скакун, какие почти никогда не встречаются у татар и крайне редко встречаются даже у знатных польских офицеров. Из надежных, хорошо охраняемых теплых конюшен таких коней выводят разве что по праздникам.
— Чем могу помочь тебе, полковник? — спросил гетман, продолжая демонстрировать свое снисходительное прощение.
— Всем. Например, тем, что я не должен вечно скитаться со своей школой в хвосте обоза. Как только мы закрепимся на какой-то из территорий, желательно, подальше от Дикого поля…
— Отдам под твою власть свое имение Субботов [38]. От степи оно будет прикрыто Сечью, Кодаком и Чигирином, с северо-запада — Корсунем и сильным гарнизоном в Звенигородке. В самом Субботове расквартируем твой полк. Так будет надежнее и тебе с твоей школой, и мне.
— Разительный пример мудрого решения сразу нескольких проблем. В том числе и вполне необходимой охраны родового гнезда гетмана, которое будет находиться, как я понял, неподалеку от расположенной в Чигирине ставки командующего, а возможно, и столицы Украины.
— Может случиться так, что ты, полковник, станешь ведать всей моей дипломатией, принимать чужеземных послов, вести от моего имени переговоры и конечно же собирать все сведения о том, что происходит при дворах соседних правителей.
— Великая и пока еще не заслуженная мною честь, — склонил голову Урбач. — Я говорю это не лести ради. И не откажусь от подобной миссии. Не откажусь уже хотя бы потому, что не вижу пока в твоем окружении человека, который бы так тянулся к этому делу, знал столько языков и сделал на этой ниве для тебя столько, сколько успел сделать я, многогрешный.
Выезжая за пределы тайного лагеря, Хмельницкий приметил, что он скрыто, замаскированно оцеплен секретными постами. Что-что, а охрана гнезда «ангелов смерти» оказалась продуманной куда лучше, нежели охрана самого гетмана, упорно не желавшего создавать какое-то особое охранное подразделение.
— А чтобы сам ты, Урбач, не чувствовал себя убогим и безвластным, с сего дня назначаю тебя гадячским полковником [39]. Кажется, ты говорил, что имение ваше — на Полтавщине, неподалеку от Гадяча?
— Неподалеку.
— Завтра же получишь мой указ, который сначала будет оглашен на казачьем совете.
— Важно, чтобы ваши офицеры и генералы, господин командующий, знали о моих чинах и полномочиях, — сдержанно согласился Урбач, давая понять, что чины и должности эти принимает не ради своего благополучия, а ради величия того дела, которому служит. Впрочем, Хмельницкий и сам почувствовал, что служит этот человек не ради имений и чинов. — И еще. Иностранные послы обычно ценят тех из окружения правителя, кого видят рядом с ним во время официальных приемов и переговоров.
— Они будут видеть тебя, полковник. И не только рядом со мной, но и рядом со своими собственными правителями [40]. Теперь, когда я лучше понял, кто ты, что собой представляешь и каковы твои возможности, я сделаю так, чтобы иностранные послы подползали к тебе на коленях. И если время от времени ты станешь пинать их ногами, то с одной стороны это будет восприниматься ими без особых обид, поскольку им известны будут твои полномочия, с другой же — позволит мне время от времени пинать тебя самого, ссылаясь при этом на твое своевластие и сумасбродство. Но уже тогда, когда нужное нам время будет выиграно.
Краем глаза Хмельницкий проследил за реакцией Урбача. Полковник благодушно рассмеялся. Такой расклад полномочий он считал вполне допустимым и приемлемым.
— Наконец-то я вижу, что в Украине появился не только очередной казачий атаман, но и предусмотрительный полководец и правитель. Не стесняйтесь, господин командующий, пинайте, если это нужно для нашего общего дела. Во всем мире пинание таких людей, как я, давно стало неотъемлемой частью дипломатического этикета. Но при условии — очень жестком условии, господин гетман, — что пинание это никогда не будет выходить за пределы государственной надобности и дипломатической хитрости.
Ответ Хмельницкому не понравился. Он не любил, когда его начинали подозревать в излишнем властолюбии и грубости. Хотя понимал, что в нужное время всякий правитель демонстрирует то и другое. Таков удел и такова звезда каждого, кто становится во главе армии, во главе страны. Совершенно очевидно, что Урбачу придется смириться с этим. Точно так же, как ему, Хмельницкому, придется смириться с тем, что Урбач оставляет за собой право быть откровенным и в дипломатическо-разведывательных делах жестко вести свою линию.
17
Оставив позади лесок, они какое-то время двигались по степной равнине, затем по каменистой осыпи поднялись на небольшое плато, словно бы самой природой созданное для того, чтобы на нем возводили военные лагеря или крепость. Хмельницкий давно заметил, что вместо того чтобы любоваться окрестным пейзажем, он с солдатской заостренностью примеряет ландшафт любой местности к условиям военного лагеря.
— То, о чем мы сейчас будем говорить…
— Не нужно предупреждать меня, господин командующий, — воспользовался паузой Урбач. — Говорить нам с вами предстоит теперь много и о многом.
— Помнишь, ко мне приезжала женщина?
— Знаю, что приезжала только одна — чешская княгиня Стефания Бартлинская. Как вы заметили, я старался не очень-то опекать вас.
— Разве уже опекаешь?
— Нам нужно подумать о вашей охране, которой я обязательно займусь лично. А пока что вас охраняют два мои «ангела смерти» — Савур и Седлаш.
— Твои ангелы? — полуизумленно-полунасмешливо спросил Хмельницкий.
— Что вас удивляет, господин командующий? Да, мои. Они тренируются в моем лагере. Я готовлю их. Может быть, Савуру нужно лично поведать вам, как, по чьему приказу он попал в ваше войско в числе первых повстанцев и по чьему совету стал верноподданно служить вам?
Хмельницкий попридержал коня и почти с ужасом взглянул на Урбача. Какие уж тут, к черту, пейзажи и ландшафты? Он не верил полковнику, просто не в состоянии был поверить.
— И по чьему же приказу он попал ко мне в телохранители и оруженосцы?
— Не удивляйтесь, по моему личному, великий гетман Украины. Именно по моему. Как, впрочем, и полупольский аристократ Седлаш. Таким образом, я готовил свое собственное появление под вашим крылом. Я познакомился с ними сразу же после того, как в свите князя Гяура вернулся из Франции. К тому времени Седлаш уже был агентом Коронного Карлика. Но я сумел перевербовать его таким образом, что гном пока что ни о чем не догадывается. Считает, что Седлаш оказался здесь по его наущению.
Несколько минут гетман чертом крутил своего вороного на узеньком пятачке, за которым начиналась довольно крутая каменистая осыпь. Он сдерживал не столько своего Тавра, сколько собственную ярость.
— Если завтра, полковник, ты узнаешь, что я собрал на площади перед своим куренем и лично изрубил всю свою охрану, всех обозников и вообще все свое ближайшее окружение, то можешь не сомневаться, что их головы, их кровь — на твоей совести. Потому что теперь я уже начинаю с опаской поглядывать на всякого, кто решается подступиться ко мне, вдруг он тоже был агентом Коронного Карлика, а затем притворился, что становится твоим эмиссаром.
Урбач воинственно рассмеялся. Его смугловатое, слегка курносое лицо по-лисьи удлинилось от необузданного порыва профессионального самолюбия.
— Истребить всех, кто сумел приблизиться к вам, — способ радикальный и в принципе вполне приемлемый. Да только вы с этим пока не спешите, командующий. Многие полководцы и правители были свергнуты или погибли во время заговоров именно потому, что или вообще ни разу не истребляли свое ближайшее окружение и даже не разгоняли его, или же делали это несвоевременно и неумело. В этих делах тоже положитесь на меня, как обычно полагаетесь на лекаря, — все еще оскаливался он в желтозубой улыбке. — Истреблять советую только по моему тайному сигналу. И так, чтобы в пылу горячки не изрубить своих, воистину преданных.
Хмельницкий оценил его юмор и наглость сдержанной улыбкой человека, которому помогают выбраться из глупейшего положения, в какое, однако, сами же и поставили его.
Впрочем, гетман начинал понимать, что чрезмерно увлекся всевозможными хлопотами, связанными с созданием армии, а также с вечной головной болью по поводу того, как эту армию вооружить, одеть и накормить. Думая о сражениях, которые еще только предстоит выиграть или которых следует избежать… он почти упустил из виду всю ту игру нервов, интересов и характеров, что разворачивалась за пологами его шатра. Вот почему многое из того, что открывалось ему в беседе с Урбачем, становилось для него настоящим открытием.
— Значит, пока чешка гостила здесь, ты не очень плотно опекал меня… — вернулся гетман к тому, с чего и начат был их разговор. — Примешь мою запоздалую признательность за это прямо сейчас? — иронично осклабился он.
— Готов принять, — стойко ответил полковник. — Однако спросить вы хотели не об этом.
— Не об этом, понятное дело. Что ты можешь сказать о княгине? О ее появлении здесь. Уж ее-то, надеюсь, подослал не ты, мой гадячский — но не гадючий же! — полковник?
— Ее — нет, господин командующий, — Урбач задумчиво посмотрел вдаль и улыбнулся какой-то своей затаенной мысли. — Такую женщину я бы вам подсылать не стал. Несмотря на то, что она старше меня. Не стал бы подсылать ее повелителю Дикого поля, восходящему в своей славе на причерноморском небосклоне, как полноликая луна — над толпами мекских паломников, потому что не рискнул бы.
— Наконец-то я тебе поверил. Впервые ты заговорил убедительно. Мне тоже казалось, что в Бахчисарае нас свела воля случая.
— Ее Величество Судьба вас свела там, гетман, — мягко поправил его Урбач, — сама судьба. Пренебрегать которой так же страшно, как и доверяться ей.
— Но затем она побывала в Кодаке, а также в Кременчуге, где встречалась с графом Потоцким и польным гетманом Калиновским. Сама призналась в этом. Однако так и не сумела объяснить, что же заставило ее вернуться в мой лагерь.
— Признаюсь, ее повторное появление в лагере нас очень насторожило.
— Ты сказал: «нас»?
— Меня и Ганжу. Если помните, полковник Ганжа лично охранял вас, не доверяя эту обязанность никому другому?
— И ты знал об этом?
— Я окружил всю местность усиленными разъездами, балки и долины утыкал своими засадами. Опасался, как бы вслед за княгиней не прорвались поляки, разведка которых рыскала неподалеку.
Хмельницкий присвистнул от удивления.
— Так что ты знаешь о княгине Бартлинской? Как видишь, ты первый, с кем я решился заговорить о ней. У тебя первого спрашиваю, можно сказать, совета. Что же касается моей безопасности, то о ней я позабочусь сам.
— Точных сведений у меня нет. Присутствовать при встрече княгини с графом моему эмиссару не удалось. Однако не сомневаюсь, что ее склоняли к покушению на вас, к обычному в таких случаях убийству. Как не сомневаюсь и в том, что вернулась она по совету Потоцкого. Кстати, она не пыталась каким-то образом уговорить вас прекратить борьбу против поляков?
Хмельницкий задумался. К своему удивлению, он почти не помнил, о чем они говорили тогда в карете, а затем в шатре. В памяти остались только белизна ее тела, ее поцелуи, ее неповторимое «Бог-дан».
— Если она и говорила о чем-то подобном, то лишь из страха за меня, — неуверенно предположил гетман. — Только из опасения, упрашивая чисто по-женски…
«Как же тебе, командующий, не хочется, чтобы хоть малейшая тень подозрения пала на эту женщину!», — мысленно отхлестал его Урбач, сохраняя при этом вежливое простодушие.
— И все же уверен, что в польском лагере ее пытались уговорить и даже подкупить. Но, судя по всему… К вам же она вернулась только потому, что представился случай. Потоцкий дал ей охранение, которое осталось далеко за пределами нашего лагеря, к тому же помог деньгами. Чего не догадались сделать вы, господин командующий.
Хмельницкий виновато взглянул на Урбача: «Откуда ты взялся на мою голову, сатана-искуситель?!»
— Ты прав, не помог. — Хотел добавить еще что-то, но не сумел подыскать нужные слова, вместо них — гневно постучал кулаком по лбу.
— Не казните себя на площади перед собственным шатром, господин командующий, — смилостивился над ним полковник. — Люди, которые встретили карету в Болотной балке, были очень похожи на разбойников. Но прежде чем лучники княгини взялись за свое оружие, они сумели предупредить, что являются гонцами гетмана. Денег, которые тоже были переданы госпоже Стефании через начальника ее охраны, вполне хватило для того, чтобы княгиня не почувствовала себя оскорбленной столь неуклюжей подачкой.
— Ты и об этом подумал, об этом позаботился?! — удивленно воскликнул гетман. — Господи! Но у меня и нет денег для нее. Вернее, есть, но… Нам нужно закупать оружие, провиант, порох, платить жалование…
Урбач понимающе усмехнулся.
— Мы ведь взяли эти деньги не из армейской казны.
— Откуда же? — подозрительно прищурился гетман.
— Кое-что «повытряхивали» на черный день и для нужд школы нашей из пленных и погибших врагов. Да еще трофейное оружие на волости небедным повстанцам распродали. Считайте, то самое, что вы, гетман, собираетесь за свои деньги покупать.
Хмельницкий повертел головой и застонал, словно ему только что всадили в грудь все стрелы, имеющиеся в колчане моравских лучников Стефании. Но, вместо того чтобы пожалеть его, Урбач поучительно развел руками.
— Понимаю, что слишком растратились, при нынешней-то бедности нашей, но ведь женщины всегда стоили очень дорого, причем любые. А уж на такую, как эта королева Моравии, скупиться вообще постыдно.
18
— Ну и как поживают твои «ангелы смерти», полковник? Есть среди них казак, по-настоящему способный ввести поляков в «гетманский блуд»?
— Уверен, что есть, — ни чуточку не сомневаясь, ответил Лаврин.
Хмельницкий недоверчиво взглянул на него, движением руки предложил походный стул и несколько минут внимательно рассматривал лежащую перед ним карту — примитивную, набросанную от руки, на глаз, но все же дающую представление о том, в какой местности находится лагерь поляков и как к нему следует подступаться.
— Понимаешь, полковник, я готов послать вот сюда, на Крымскую дорогу, ведущую в сторону Корсуня, в урочище Гороховая Дубрава, отряд под командованием Кривоноса. Тут крутая долина, вокруг — леса и болота. В нужный момент отряд войдет в урочище, за одну ночь перекопает, устроит засады, завалы… Но «ангел смерти» нужен такой, чтобы смог бы убедить поляков, нагнать на них страх, заставить вести переговоры с нами, а главное — выманить их из полевой крепости.
— Этот выманит. Сам Галаган пойдет.
— Галаган? Но ведь он у тебя как бы первый помощник.
— Вызвался. Это он привел добровольцев, он же и подал идею создать школу «ангелов смерти». Этот мужественный человек считает, что негоже ему прятаться за спины. Идет первым.
— Ты уверен в нем?
— В себе так не уверен. На всякий случай пошлю с ним еще двоих. Хочу создать группу, которая будет надоедать полякам, подставляя им Галагана. К тому же все может быть: пуля, стрела… В таком случае третий, запасной «ангел», постарается заменить Галагана.
— Почему третий?
— Потому что в плен должны попасть двое, третий — вернуться и доложить. Ну а пытать их будут поодиночке. Вначале оба станут упорно молчать, затем признаются. Но говорить станут почти одно и то же, называя численность войск с небольшой разницей в две-три тысячи.
— Для большей достоверности, — согласился гетман.
— Когда запускать их к полякам?
— Уже завтра утром, дальше ждать нельзя. Если поляки обнаружат отряд Кривоноса, тогда не то что твоим, но и настоящим, небесным ангелам не поверят.
— Небесным, в любом случае, не поверят. Это уж точно.
— Галаган знает, что говорить и как говорить?
— Трижды подверг его пытке. Впереди ночь. Еще разок проверю.
— Душегуб ты, — проворчал гетман. — Ты ж его прямо здесь, в нашем лагере, замучишь.
— Пытки пока что были словесными. Всего лишь…
— Пытать бы тебя терновым коронованием, горлорез стамбульский, — упорно пытался гетман пожалеть того, кого через несколько часов сам отправит на мучительную гибель.
— Если бы можно было послать кого-нибудь другого, — уловил его душевные мучения Урбач, — я бы послал. Но из этого лагеря, — ткнул пальцем в самодельную карту, — самого коронного гетмана… может выманить только этот старый ирод. Он ведь сам себя жжет. Он по огню ходит. Дважды из плена убегал.
— Может, и в этот раз убежит?
— В этот раз не убежит, потому что нельзя. Обычно верят только тому, кто клянется уже на плахе. Так уж в этом вечно воюющем мире издревле повелось.
— Тоже верно.
— На рассвете пришлю его к вам, господин командующий. Чтобы человек удостоверился, что на «гетманский блуд» его посылает сам гетман. Для Галагана, как для смертника, это важно.
Как только Урбач ушел, Хмельницкий вновь позвал к себе вернувшегося в ставку из засады полковника Кривоноса, а также Ганжу, Лютая, Джалалию…
— Будем надеяться, что наш казак все же попадет к полякам, — молвил он. — В этом случае мы должны непрерывно атаковать их лагерь. Точнее, имитировать атаки. В то же время татарской коннице, — обратился он к Карадаг-бею, представлявшему здесь интересы перекопского мурзы, — следует разделиться. Одна часть утром пройдет мимо польского лагеря, делая вид, что только что прибыла сюда и что это передовой отряд Ислам-Гирея.
— Татары любят появляться с таким шумом, что тысячу их легко можно принять за десять, — заверил представитель татарской ставки. — Причем они умеют появляться таким образом.
— Мы рассчитываем на вас, полковник Карадаг-бей. Сделайте все возможное, чтобы в решающую минуту татарская конница наступала в том направлении, где находится лагерь поляков, а не в том, где расположился обоз моей армии.
Карадаг-бей обиженно промолчал. Однако Хмельницкий помнил, насколько высоко советник хана ценит и лелеет свое самолюбие. И что с задетой гордыней стараться будет по-настоящему.
— Если поляки выйдут из лагеря, мы не станем преследовать их, — предупредил Хмельницкий, — а будем сопровождать на расстоянии, находясь в стороне и как бы чуть-чуть позади. Чтобы боковое охранение поляков успокаивало Потоцкого. И так будет продолжаться до тех пор, пока поляки не подойдут к Гороховой Дубраве.
— А если они не пойдут туда? — проворчал Ганжа. — А захотят обойти его со стороны Стеблова, до которого урочище дотягивается не таким широким клином, как простирается в сторону Канева?
— Обход займет слишком много времени. И растянет их колонну. Уверен, что поляки будут стремиться поскорее пройти через урочище, чтобы к ночи добраться до Богуслава. К тому же в польском лагере есть наш казак, который постарается повести поляков по тому пути, который удобен нам.
— У нас действительно есть такой казак? — усомнился Джалалия, позволявший себе сомневаться буквально во всем, что сделано без его участия.
— К вечеру мы должны получить от него весть. Тогда будем знать точно, готов ли он жертвовать собой, заводя поляков туда, куда нужно нам. Кроме того, мы пошлем еще одного казака. Если поляки поверят ему, он тоже может стать их проводником. А теперь взгляните на карту. Вот Крымский путь. Поляки могут идти только таким строем: по дороге движутся кареты командования; по обе стороны от дороги — повозки с артиллерией; затем колонны пехоты, которые с двух сторон прикрываются конницей.
— Германская выучка, — согласился с ним Кривонос. — Точно так же они выстраивали свою походную колонну и под Желтыми Водами. Но воспоминания о судьбе Стефана Потоцкого как раз и будут удерживать поляков от выхода из лагеря.
— Если что-то пойдет не так, как мы предполагаем, тогда и действовать будем, исходя из ситуации, а пока что мы обсуждаем наш план, а не план Потоцкого.
— Считай, гетман, что я не произносил ни слова, — покаянно молвил первый полковник войска.
— …Как только поляки начнут втягиваться в урочище, им сразу же придется поломать свой приспособленный к походной обороне строй, поскольку путь их будет пролегать через узкий болотистый овраг. Дальше действуем так: ты, Джалалия, налегаешь со своей конницей на польский арьергард, не позволяя ему занять оборону, а значит, не давая возможности голове колонны вернуться на равнину. Ты, Лютай, со своей пехотой наносишь удар на стыке между арьергардом и основной колонной. Ты, Ганжа, заботишься о том, чтобы у поляков не возникало желания уйти в сторону сел Выграив и Стеблов. Тем временем со стороны Канева ужас на них будет наводить татарская конница…
19
Полковники ушли, убежденные, что все сложится именно так, как задумал их удачливый гетман. Но, оставшись наедине с собой, Хмельницкий вновь вернулся к карте и, взглянув на расположение польского лагеря, саркастически рассмеялся: никакие откровения наших «ангелов смерти» не заставят поляков оставить эту крепость, сказал он себе. Никакие! У них еще есть продовольствие, есть вода и порох. Кроме того, существует несколько участков, вполне пригодных для прорыва нашего окружения, причем они очевидны. Поляки конечно же останутся и дадут нам бой. Оказавшись на месте Потоцкого, ты избрал бы только такой исход противостояния. Так почему же ты считаешь, что Потоцкий должен мыслить иначе?
…Потому что Потоцкий, тут же возразил себе командующий, будет напуган сообщениями «ангелов смерти». Его поразят численностью татар, сражаться с которыми поляки просто психологически не готовы, а также численностью казачьих войск. К тому же в польском лагере все еще царит смятение после гибели корпуса Стефана Потоцкого под Желтыми Водами, причем зарождается это смятение в умах и сердцах самого главнокомандующего и его ближайшего окружения. А когда высшее командование армии не верит ни в свои силы, ни в свою военную удачу, это уже опасно. Словом, если коронный гетман в самом деле все еще не опомнился после разгрома войск своего сына, он уже сейчас ищет способы избежать битвы, значит, как только увидит, что путь к отступлению пока что открыт…
…Но именно потому, что он помнит о разгроме корпуса Стефана, он и побоится выйти из лагеря. Ведь сына казаки твои разгромили тем же способом — выманив его за валы. Так станет ли отец повторять трагическую ошибку своего неопытного потомка? Лагерь-то вон в каком прекрасном, удивительном месте разбили! В здешних краях другого такого не сыщешь…
…Так уж повелось, что самым упрямым и самым неподатливым оппонентом Хмельницкого всегда являлся он сам. Казалось, гетман способен был убедить кого угодно. У него хватало терпения убеждать часами. Вот только спорить с собой он так и не научился. Вечно не хватало ни терпения, ни аргументов. Так произошло и на сей раз. Отчаявшись прийти к какому-то окончательному выводу, гетман схватил коня и помчался в полк Кривоноса, который располагался чуть поодаль от основного лагеря. Ему вдруг лично захотелось убедиться, что его казаки умеют и готовы устраивать завалы, ямы-ловушки и засады. Он требовал показывать пилы и топоры и даже лично проверял, остры ли некоторые из них; уточнял, хватает ли бойцам, которым завтра же предстоит развернуть все эти работы, лопат. А в конце концов потребовал, чтобы Кривонос отобрал сотню казаков, умеющих подсекать деревья так, чтоб падали они только тогда, когда нужно и куда нужно; были привычны к земляным работам и имели устраивать завалы.
А поскольку гетман был пронизан ожиданием, день этот чудился ему нескончаемым. Солнце застыло чуть выше линии заката и словно бы вмерзло в небесную синь. Казалось, никакая сила — ни земная, ни Божья — не способна теперь сдвинуть его с места.
Вывело же командующего из этого состояния нервной издерганности только то, что, вернувшись в свою полевую ставку, он застал там спокойного, уверенного в себе и своих «ангелах смерти» полковника Урбача.
— Ну и что там у нас?! — обрадовался его появлению. — Ангелы твои не подведут?
— Группу подготовил. До утра решили не ждать, выступят сейчас, под вечер, вроде бы пойдут в разведку, но так, чтобы деликатно подставиться одному из польских разъездов.
— То есть не позволишь ты Галагану помолиться в ночь перед гибелью.
— Зато у поляков эта ночь окажется очень подходящей для молитв. Кроме того, есть уже вести от Зарудного.
— Так, значит, фамилия казака, который уже находится в польском стане, Зарудный?
— Стараюсь как можно реже называть его имя. Пока что знаете его только вы.
— Когда же ты успел заслать его к полякам?
— Поверит ли Потоцкий тем, кого мы сейчас им подошлем, еще неизвестно, а Зарудный давно служит у гетмана. В свое время он был реестровиком, затем — надворным казаком, служившим в охране одной из усадеб Потоцкого. Возможно, он единственный из нашего племени, кому польский командующий еще способен поверить. А главное, он из этих мест и вполне может служить проводником. Направляясь сюда, Потоцкий ведь не проходил урочище, и среди поляков вряд ли найдутся люди, знающие эту дубраву.
— И Зарудный согласен помочь нам?
— Как только выяснится, какой именно путь изберут Потоцкий и Калиновский, он сразу же сообщит нам об этом. Вполне возможно, что к утру мы уже будем знать маршрут и сможем послать корпус Кривоноса в засаду.
— Слишком гладко у тебя все выходит, — проворчал Хмельницкий, вновь и вновь обращая взор к расстеленной на столе карте.
— Точно такие же слова я только что слышал от одного полковника. Правда, тогда речь шла о ваших собственных военных планах, господин командующий.
— Изыди, сатана! — едва удержался от улыбки Хмельницкий. Нервы у него сейчас были на пределе. Иногда ему хотелось упасть, на колени и молить Господа, чтобы вновь послал ему удачу, вновь одарил победой, да такой, чтобы не только Украина, но и вся Польша содрогнулась.
— Изыду, но ненадолго. Через полчаса появлюсь вместе с Галаганом.
— С ним — да, можешь появляться. Дай хоть в глаза ему посмотрю. В последний раз. Я ведь его еще под Хотином знал. Помню, отец с ним дружбу водил. Все в свою сотню переманивал его, да, жаль, так и не переманил.
* * *
«Ты не должен говорить с ним, как с обреченным, — предупредил себя Хмельницкий, наблюдая, как Урбач и Галаган приближаются к его шатру. — Ты посылаешь в бой тысячи людей, и все они в той или иной мере обречены. Причем обречены изначально. Тогда в чем дело, почему этот воин должен стать исключением? Ты не о гибели его должен думать, а только о том, что именно он способен сделать для войска, какую пользу принести ему».
Гетман вышел им навстречу, усадил Галагана на пень напротив себя и несколько минут наблюдал захватывавшую своей суетностью жизнь муравейника.
— Ты сам избрал этот путь, казак, а значит, сам определил свою судьбу, — в самый неожиданный момент произнес он, все еще не отводя взгляда от муравейного Вавилона.
— Разве я возражаю? Конечно, сам, султан-паша заморский.
Хмельницкий терпеливо подождал, пока «ангел смерти» закурит свою трубку. Возможно, последнюю.
— Я помню тебя еще по битве под Хотином.
— И я тебя, гетман. Еще тогда отцу твоему говорил: «Это даже не кошевой атаман у тебя вырос, а настоящий гетман». Не верил, царство ему. Мне бы, говорил, как-нибудь уберечь его хотя бы во время нынешней битвы…
Они прокашлялись и помолчали.
— Если поляки останутся в лагере и замкнутся в нем, мы положим тысячи казаков, прежде чем сумеем выковырять их оттуда. Ядра их собственными телами останавливать придется.
— Да и подкрепление к полякам подойти может, — поддержал ход его мыслей смертник. — Потому и попробую взять их на старый «гетманский блуд». Но если не получится, ты уж прости старому казаку. И помолись.
— Всем войском помолимся. Даже если не получится. Смотри, чтобы в плен они тебя взяли, как полагается. Им уже несколько дней не удается захватить ни одного языка, мечутся вокруг своего лагеря, пластунов к нашему подсылают, но мы их тут же отстреливаем или прогоняем. Говори, что в Корсунском полку служишь, то есть в гетманской гвардии, тогда, может, больше веры тебе будет.
— Сказать — скажу, султан-паша заморский, отчего ж не сказать?
Вновь помолчали.
— Выпьешь на дорогу?
— Грех не причаститься, причем из рук самого гетмана.
Хмельницкий вошел в шатер, взял графинчик и чашечки, сам налил Галагану и себе.
— Славы тебе, казак. Не только ныне сущей, но и вечной славы.
— А тебе на добром слове спасибо. Ты уж так на поляков налегай, чтобы ни один из них из Гороховой Дубравы живым не выбрался. Чтобы не только тела, но и души их там гибли.
Покряхтели. Выпили. Вздохнули.
— Что еще я могу сделать для тебя? — спросил гетман.
— Не жалеть меня. Век свой казачий я знаю. Я ведь только потому и пришел в твое войско, чтобы не в зимнике холодном умирать, а во славу казачьего братства. Всем остальным старым казакам то же самое завещаю.
— Таких, как ты, на Сечи не жалеют, такими гордятся. А сам видишь, что в моем войске традиции запорожские сечевые чтут, как церковные каноны.
Вновь выпили. Прощально поцеловались.
— Перекрести меня своей гетманской рукой, чтобы запомнилось, что сам гетман благословлял…
Хмельницкий трижды перекрестил казака и вновь поцеловал.
На глазах Галагана появились слезы.
— Мне, дураку старому, стыдно признаваться, но, не поверишь, давно чудилось, что умирать буду благословленным самим гетманом. Осененным его крестом. И ведь знал же, что гетмана в Украине пока еще нет, а все равно чудилось.
Хмельницкий перекрестил его еще раз.
— Дай-то Бог, чтобы и меня в мой смертный час точно так же осенил своим гетманским перстом тот, кто булаву мою примет. Только он уже должен быть гетманом всей нашей соборной Украины.
— Тебе, гетман, иное посчастливится, — возразил Галаган. — Осенять и прощать тебя будет весь народ. Как гетмана Великой Украины.
Повернулся и спокойно пошел туда, где чуть в сторонке, у шатра ординарцев и телохранителей, поджидал его Урбач.
— Мы будем молиться за тебя, казак, — негромко проговорил ему вслед Хмельницкий. — Святая та смерть, которая способствует победе целого войска.
20
— Так что там говорит этот ваш казак? — зло поинтересовался польский главнокомандующий у адъютанта.
— Молчит.
— Не может же он молчать вечно, такого не бывает. У н?.ас что, действительно перевелись мастера, которые способны заставить говорить даже мертвых?
— Его пытали всю ночь, — мрачно объяснил майор Торуньский. — Назвал себя, сказал, что из Корсунского полка и что послан был в разведку. Но отвечать, сколько у них там всего полков, откуда прибыли, какова их численность, а главное, сколько воинов привел с собой перекопский мурза Тугай-бей, — отказывается.
— Или же ничего об этом не знает.
— Корсунский полк считается гвардией Хмельницкого. А п?.рибытие татар или свежих отрядов не утаишь. Наоборот, Хмельницкий объявляет о них, чтобы поднять дух своего воинства.
— Но если этот казак хоть что-либо знает, почему не знаем этого мы? — холодно процедил граф Потоцкий. — Мне что, самому пытать его? Вы уже не способны даже на это?
— Я прикажу, — низко склонил голову адъютант. — От вашего имени, господин коронный гетман.
Свой штаб Потоцкий расположил в небольшой хате-мазанке, оставшейся здесь от какого-то хуторка. Рядом были еще две полуразрушенные хаты, в одной из которых, выложенной из самана, коронный гетман пересиживал обстрелы казачьей артиллерии. По крайней мере стены ее спасали от осколков. И в. се же хорошо укрепленный лагерь этот казался гетману все менее надежным. Прежде всего настораживало, что казаки не спешат штурмовать его. Пополняясь и пополняясь отрядами повстанцев, армия Хмельницкого даже не попыталась взять его стан в окружение. Наоборот, казаки укрепляют два своих лагеря, пытаясь спровоцировать польское войско на губительный штурм, а точнее — выманить его за валы.
— Господин коронный гетман, — буквально вывалился из седла вконец уставший ротмистр Радзиевский, который в последние дни выполнял у Потоцкого обязанности начальника разведки. — Только что мы проследили, как к лагерю Тугай-бея прибыл еще один большой отряд ордынцев.
— Какой еще отряд? Откуда он взялся? Это его приветствовали пальбой в лагере Хмельницкого?
— Его, ваша светлость. Известно было, что татары ждут пополнения. Тот татарин, что попался нам в первый день, сообщил…
— Знаю, он сообщил, что мурза ждет прибытия хана с «войсками ислама», — угрюмо подтвердил Потоцкий. — Считаете, ротмистр, что это передовой отряд его войск?
— Очевидно, да. Хан не мог прибыть с какой-нибудь тысячей всадников. Как и эта тысяча не могла прибыть из Крыма одна.
— А вы уверены, что она из Крыма? Может, это Тугай-бей, по совету Хмельницкого, комедию у нас на глазах разыгрывает?
— Татарский стан был на месте. Мы следили за ним всю ночь. А вчера два больших отрада прибыли к Хмельницкому, так что никакая это не комедия.
— Сколько же у него сейчас войска?
— Трудно сказать. Это может знать только пленный казак, если только…
— Если только кто-нибудь в этом лагере заставит его заговорить. Или таких людей у меня уже не осталось?
Они оба посмотрели в сторону глубокого, поросшего кустарником яра, подползавшего к реке метрах в двухстах от штабной хижины. Где-то там, в одной из наспех сооруженных землянок, Торуньский и два палача из комендантской сотни коронного гетмана допрашивали пленного казака, назвавшегося Никитой Галаганом.
— Честь господину коронному гетману! — еще издали сдержанно приветствовал Потоцкого польный гетман Калиновский. Черниговский воевода, он и сейчас установил свой шатер в левом крыле лагеря, в небольшой, прикрытой от пуль и стрел низине, рубежи которой были укреплены отдельным валом и двумя рядами повозок.
В п. оследние дни, после того, как гетманы поссорились из-за тактики дальнейших действий, Калиновский почти не выходил из своего «черниговского повозкового замка», демонстрируя полнейшее неуважение к командующему. Его же примеру начали следовать и другие офицеры-аристократы. Прежде всего — о. дин из самых богатых и знатных волынских магнатов князь Самуил Корецкий, сотворивший точно такую же крепость чуть правее штабных шатров, вокруг небольшого родничка. Впрочем, гонор начал одолевать и аристократов помельче, почти каждого, кто имел право причислять себя к «знаменитой и высокородной шляхте».
— Не меньшая честь и господину польному гетману, — с салонной иронией ответил Потоцкий.
— Мои офицеры спрашивают, как долго мы будем собирать вокруг себя казачью чернь и крымскую татарву. Не лучше ли внезапно выйти из лагеря и ударить по казакам, пока они не получили еще несколько тысяч подкрепления? Уверен, что татары так и останутся по ту сторону реки и ввязываться в нашу давнюю вражду не станут.
— Попытайтесь выйти — и вы окажете большую услугу Хмельницкому. Пока мы будем сражаться с казаками, татары начнут терзать наши обозы и расстреливать из луков челядь.
— В т?.аком случае, следует уходить в сторону Богуслава. Иначе мы останемся без съестных припасов еще до того, как казаки полностью блокируют наш лагерь. Что там говорит ваш пленный?
— Пока только проклинает нас.
— Так пусть его приведут сюда. Я хочу собственными ушами услышать, как меня станут проклинать.
Располневший, едва охватываемый дорогим, обшитым мехами кунтушем, промеж широких лацканов которого просматривался розоватый жупан, польный гетман мало был похож на настоящего офицера. Менее располневший Потоцкий время от времени осматривал его необъятную фигуру с нескрываемым презрением. Если бы не упрямство канцлера Оссолинского и самого короля, он давно заменил бы Калиновского на более молодого и воинственного генерала, ибо только и ждал удобного случая. Еще недавно он считал, что польным гетманом уже вполне мог бы стать его сын Стефан… Его сын… Сын…
— Не будем затевать новую свару, господин Калиновский. Сейчас я прикажу привести этого казака, и мы вместе попытаемся разговорить его.
Слова Потоцкого растворились в грохоте взрывов. Гетманы оглянулись и увидели, что первые ядра взорвались в южной части лагеря, где стояли продовольственный обоз и пехота. Теперь, когда Хмельницкий додумался поставить свои орудия на легкие колесницы, его артиллерия неожиданно появлялась то в одном, то в другом месте и, направив удар на один сектор лагеря, терзала его в течение десяти-пятнадцати минут, чтобы скрыться еще до того, как польские бомбардиры успеют развернуть свои орудия и пристреляться по ним.
— В атаку пошли татары! — вздыбил коня полковник Чеславский, указывая на правый фланг. — Прикажите перебросить туда хотя бы две роты пехотинцев.
— Успокойтесь, полковник, штурмовать укрепленный лагерь татары не станут. Они даже не представляют себе, как это делается, — спокойно заметил Потоцкий.
— Но у них в последнее время вдруг непонятно откуда появилось много ружей и пистолетов. И стреляют они не хуже, чем из луков.
— Хорошо, передайте полковнику Ядвинскому, пусть переведет в ваш сектор две роты пехотинцев! Но своим прикажите в перестрелку не вступать. Не теряйте людей. У нас их и так немного.
Потоцкий оказался прав. Штурмовать лагерь татары не стали, им это было ни к чему. Разбившись на три отряда, они устроили три бурлящих водоворота — у казаков это называлось «крутить черта». Без конца проносясь мимо польских валов, они обстреливали драгун Чеславского пулями и тучами стрел. Это уже была третья атака, и после каждой из них полк нес потери не столько в людях, сколько в лошадях. Постепенно спешивая поляков, татары еще и лишали их съестных припасов: сотни лошадей приходилось добивать в один день.
— Адъютант! — подозвал Потоцкий одного из офицеров. — Передайте полковнику Чеславскому, пусть атакует татар. Увидим, как они поведут себя.
— Они сразу же уйдут за реку и, рассыпавшись, станут расстреливать нас из луков, — ответил адъютант, прежде чем поспешил выполнить приказ командующего.
Услышав это, Калиновский едко рассмеялся.
— Вот времена настали! Теперь каждый хорунжий пытается поучать коронного гетмана, — совершенно некстати пожаловался ему Потоцкий, чем вызвал настоящий взрыв саркастического смеха у всей свиты Калиновского.
— Господин коронный гетман! — наконец показался на холме у хуторка майор Торуньский. — Казак неожиданно заговорил!
Гетманы переглянулись.
— Действительно, заговорил?
— Мы имитировали казнь! Пытались посадить его на кол! Тут-то он и взмолился.
— Что-то не верится мне, чтобы казак, столько молчавший, взмолился, увидев перед собой кол, — проворчал Калиновский. — Но выслушать его в любом случае надо.
— Сюда этого разбойника! — побагровел Потоцкий. — Я ему сейчас такое сымитирую, что он сам на кол попросится!
21
Пленника приволокли и швырнули у шатра Потоцкого, у которого уже собрались почти все командиры полков и знатные польские аристократы.
— Негоже, чтобы он валялся, — довольно спокойно заметил коронный гетман. — Усадите его на стул и дайте ему водки.
Пока слуги выполняли приказ графа, в лагерь вернулся большой разъезд драгун, посланных в разведку.
— Господин гетман, — доложил его командир. — Со стороны Чигирина приближается черная туча. К Х? мельницкому подходят войска.
— Что значит «подходят войска»?! — подхватился Потоцкий, бросаясь к коню. Он делал это с такой решительностью, словно сейчас же намерен был поднять все свои полки и двинуться на врага. — Кто подходит? Сколько их?
— Мы не могли приблизиться. Там казачьи и татарские разъезды. Но, судя по облаку пыли, тысяч десять, не меньше.
В эти минуты никто не обращал внимания на пленного. Но даже если бы внимательно присматривались к нему, все равно не заметили бы, как, неспешно прикладываясь к кварте с водкой, старый казак гасил в ней коварную волчью улыбку. Хмельницкий все делал так, как условились. Но при этом гетман уверен был, что и «ангел смерти» тоже сдерживает свое слово. Сегодня утром к лагерю Хмельницкого действительно должно было подойти подкрепление. Но не более трех тысяч. Еще две тысячи — это те, что ночью пошли им навстречу.
Само подкрепление состояло из обоза и плохо обученных новобранцев, только недавно прибившихся к запорожскому лагерю повстанцев. Но, чтобы усилить впечатление, Ганжа устроил показное шествие армии, присоединив к нему табун татарских коней — подарок хана, все еще не спешившего присоединиться к повстанческой армии.
— В восточном секторе опять начала обстрел артиллерия, — доложил кто-то из полковников.
— Вижу, что начала, — замялся у коня Потоцкий. — Выведите своих драгун и гусар и ударьте по ним! Захватите эти орудия!
— Их прикрывают кавалерия и пехота. Пушкари успевают отойти за свои валы раньше, чем мы добираемся до них. И потом вновь занимают позиции, прежде чем мы, потеряв два десятка убитыми, возвращаемся в лагерь.
— Так чего вы хотите от меня?! — уже буквально рассвирепел коронный гетман. — Чего ждете? Вы кто? Офицеры? Вы прибыли сюда воевать или пьянствовать? Если воевать, то извольте, — указал перстом в сторону казачьего лагеря, — воюйте! Думайте, хитрите! Проявляйте мужество, черт бы вас побрал!
Выплеснув весь свой гнев, Потоцкий оставил попытки взобраться на коня, уселся в свое походное кресло и посмотрел на пленника с таким дружелюбием, словно перед ним появился тот единственный человек, с которым он только и может поговорить по-людски, отвести душу, довериться. Причем взгляд этот был искренним — настолько надоело сейчас графу все это «гоноровое и высокородное», что окружало его в лагере.
Потоцкий давно заметил, что начинает сторониться польской шляхты, его больше не тянет на сборища аристократов, ему осточертели бесконечные рассуждения о бедной, многострадальной и несбыточной «Великой Польше от моря до моря»; осточертели склоки по поводу маетностей, дуэлей и родовых передряг. Он старел — и признавал это. Он устал от жизни — и даже не пытался скрывать этого. Ему хотелось покоя и одиночества, одиночества и покоя…
Сегодня ночью он едва устоял от воплощения совершенно безумной в его положении идеи: взять с собой три сотни драгун и, оставив лагерь, умчаться в сторону Богуслава. Якобы за подкреплением, чтобы собрать новое войско и прийти Калиновскому на помощь. И гнали его в бега не столько страх, сколько гнуснейшая нравственная атмосфера, создавшаяся в лагере.
— Почему ты сразу же не заговорил, казак? — устало упрекнул он Галагана. — Зачем нужно было мотать нервы себе и нам? Ты ведь знаешь… Если уж попался, нужно рассказать все, что тебе ведомо. Тебе еще водки?
— Хватит, ваша ясновельможность, — негромко, вздрагивая от страха и боли, ответил пленный. Теперь он был сама покорность. Но не Потоцкому говорить ему о судьбе, от которой самому командующему не сбежать из лагеря ни с тремя, ни с десятью сотнями отборнейших драгун. — Я свое отпил.
— Мы не враги. Ты ведь не татарин какой-нибудь и не турок. Обычный подданный Его Королевского Величества. Или уже не подданный?
— Подданный, ваша графская ясновельможность, — смиренно подтвердил Галаган, покаянно икнув, но тотчас же прикрыв рот ладонью, чтобы не раздражать Потоцкого.
— И в реестре, наверное, состоял?
— Под Хотином сражался, ваша графская ясновельможность. Под командованием его светлости коронного гетмана Ходкевича, Царство ему Небесное. Господин Ходкевич лично благодарил меня за храбрость.
Потоцкий откинулся на спинку кресла и вопросительно взглянул вначале на Калиновского, затем на Корецкого, Чеславского, Ядвинского, как бы спрашивая: «Ну что, стоит ему верить»? Ни один из них не ответил гетману ни словом, ни взглядом. Все впились глазами в казака словно разуверившееся племя — в лик невесть откуда явившегося им мессии.
— Слово шляхтича, что ты будешь отпущен, если честно расскажешь нам о том, что происходит в лагере этого предателя короны Хмельницкого. Тебе, как казаку, сражавшемуся под хоругвями гетмана Ходкевича, мы прощаем все твои прегрешения перед королем и верой. Вы подтверждаете мои слова, господа? — обратился граф к офицерам.
— Подтверждаем, — зло, неохотно подтвердили те. Но подтвердили все. Галаган с преувеличенной надеждой во взгляде наблюдал за ними, отлично понимая при этом, что слова своего они не сдержат.
— Так сколько сейчас войска у Хмельницкого?
Галаган замялся, пожал плечами, прокашлялся…
— Так ведь точной цифры, ваша графская ясновельможность, не знаю. Я — простой казак, хоть и служил в сотне, которая охраняет гетмана.
— Видим, что не полковник, — прервал его коронный гетман. — Но служил все-таки в охранной сотне, поэтому хотя бы приблизительно. Ну?!
— Да как сказать… Позавчера слышал, как сотники говорили промеж собой, что нас вроде бы тысяч тридцать уже и что с таким войском можно штурмовать ляхов… Нижайше прошу прощения, поляков. Просто они так говорили.
Гетманы многозначительно переглянулись.
— Не пугайся, говори так, как слышал, — попытался успокоить его Потоцкий.
— Но в тот же день, — продолжал Галаган, — из Запорожья подошли еще две сотни запорожцев. Да из-под Умани какой-то атаман привел отряд в две с половиной тысячи. Вчера тоже прибилось к нам три или четыре отряда. Небольшие, правда, всего тысячи по полторы каждый…
— Ну и сколько же всего сабель может быть сейчас у Хмельницкого? — кончилось терпение у Калиновского.
— Пока немного, думаю, тысяч за сорок. Но слышал, что сегодня еще должны прибыть два полка с левого берега Днепра, откуда-то с Полтавщины. А еще может вернуться сотня запорожцев, которая приведет с собой полк донских казаков. О дончаках в лагере много говорили. Может, и врали, ваша графская ясновельможность. Это если бы вы полковника Ганжу или Кривоноса захватили, те лучше знают. Потому что каждый день принимают новые отряды и указывают, где им разбивать лагерь.
Потоцкий и Калиновский вновь переглянулись, и оба основательно помрачнели.
Казаку можно было и не доверять, но только что они сами стали свидетелями того, что к лагерю Хмельницкого прибыло новое большое пополнение. Вполне возможно, что это и есть те два полка с Полтавщины и донские казаки, успевшие соединиться с сечевиками.
— Сколько же сейчас татар? Только правду, собачий ты сын, правду!
— Да немного их, — пренебрежительно махнул рукой пленник. — Слышал, что полковник наш Кривонос проклинал и Тугай-бея, и хана. Они обещали, что приведут с собой тысяч шестьдесят. Но только где они, эти шестьдесят тысяч?
— Шестьдесят?! — переспросил князь Корецкий, наиболее рослый и статный из всех присутствовавших здесь. Он держался особняком. Облачен был в мощную французскую кирасу со всеми полагающимися для боя металлическими наплечниками и латами. — Тогда сколько же их сейчас?
— Слышал, как, ругая хана, Кривонос говорил, что татар прибыло очень мало. Потому и штурмовать вас не начинают.
— Так сколько же, сколько?! — не сдержался Корецкий. — Какую численность он называл?
— Да всего что-то около пятнадцати тысяч. Разве это войско?
— Около пятнадцати?! — недовольным жестом упредил князя Корецкого коронный гетман. — Ты точно слышал, что пятнадцать? Или опять пройтись по тебе каленым железом?
— Не пятнадцать, он гневался, что меньше, около пятнадцати. Так я слышал, так и говорю. Я ведь не говорю, что пятнадцать, — зачастил Галаган, приложив обожженную руку к груди. Через каленое железо он уже прошел. И сейчас польские генералы могли лишь удивляться той стойкости, с которой он до сих пор держался.
— Но мне же говорили, что татар не больше шести тысяч? Ротмистр Радзиевский, где вы там?!
— Здесь, господин коронный гетман.
— Ведь это же вы докладывали, что татар не более шести тысяч.
— Точно подсчитать их невозможно. Но в первый день приблизительно столько их и было. Это подтвердил пленный татарин.
— К черту вашего пленного татарина!
— Но кто знает, может, этот казак лжет? И потом ведь к лагерю Тугай-бея несколько раз подходило подкрепление.
— Так что ты, ирод, хочешь сказать, — вновь обратился коронный гетман к Галагану, — что сюда, под Корсунь, уже прибыл со своим войском крымский хан?
— Если бы прибыл… — развел руками Галаган и вновь потянулся к стоявшей у его ног кружке с остатками водки. — Если бы он прибыл, Хмельницкий уже взял бы ваш лагерь. Были только гонцы от него.
— Ну и что? Ну, были гонцы, были… — нервно подгонял его Потоцкий, видя, что Галаган блаженно припал к «святому источнику».
Один из офицеров, которые допрашивали казака, метнулся к нему и попытался выбить кружку из рук, но Галаган успел отвести ее в сторону, прошипев: «Дай напиться, нехристь!» и вновь приложился к кружке.
— Гонцы передали Хмельницкому какие-то подарки, — довольно крякнул он, вытирая рот рукавом. — Что именно было в этих ларцах, не знаю, потому что не заглядывал. А сотню татарских лошадей, которых тоже гетману подарили, своими глазами видел, потому что своим кнутом в табун их загонял. Правда, лошадки эти неказистые, такие, что уважающий себя казак постесняется седлать их…
— Не томи душу, сволочь! Где сейчас хан? — с оголенной саблей пошел на пленного Корецкий.
— Вернитесь на место, князь, — сурово остановил его Потоцкий. — Здесь допрашиваю, казню и милую я. И никто другой.
Корецкий метнул на него такой же гневный взгляд, каким только что удостоил пленного казака и, проворчав что-то очень злое, неохотно вернулся к шатру. Остальные неловко промолчали. Все понимали, что Потоцкий теперь использует любую возможность, чтобы утвердить свое верховенство в лагере, постепенно оттесняя от командования польного гетмана Калиновского и всех прочих, кто к нему рвется.
— Так где сейчас хан со своей ордой?
— Знаю только, что позавчера он перешел через Днепр, неподалеку от Хортицы. Но идти сюда не спешит. Теперь он где-то возле Чигирина, грабит, наверное.
— Почему ты думаешь, что уже возле Чигирина?
— Потому что там имение Хмельницкого. Неподалеку, в Субботове. А гетман просил гонца передать хану, чтобы тот приказал своим воинам не заходить в его Субботов, не разорять его усадьбу. Старшина наша еще подсмеивалась: «Во как Хмель, гетман то есть, за имение свое дрожит. А что нам, всем остальным, делать, когда татары до наших сел дойдут? Свое-то гетман, может, и убережет, однако наши имения защищать так яростно не станет».
— Значит, в лагере уже есть недовольные гетманом?
— Есть и такие, что недовольны гетманом. Но больше все же тех, которые злы на татар. Они не хотят, чтобы татары приходили на их земли, даже союзниками.
* * *
Потоцкий взял у слуги приготовленную трубку и некоторое время задумчиво курил, упершись рукой о колено и глядя себе под ноги. То, что говорил казак, было похоже на правду. Хана здесь пока что действительно нет. Разведка заметила бы его шатры. Да и татары приветствовали бы его прибытие. Но если он движется со стороны Чигирина, значит, Хмельницкий обеспокоен судьбой своего имения, поэтому и просил предводителя татар попридержать своих ордынцев. Все сходится. Такое просто так, ради вранья, не придумаешь.
— И сколько же хан ведет с собой войска?
— Этого я не знаю, — поспешил заверить его Галаган. — Крест святой, не знаю. Да и сам Хмельницкий об этом, наверное, ни с кем не говорил.
— Но хан не может привести войска меньше, чем насчитывается сейчас у его мурзы, Тугай-бея, — неожиданно вмешался князь Корецкий. — Это было бы недостойно хана — привести меньше… Особенно если учесть, что они с Тугай-беем враждуют и мурза поглядывает на бахчисарайский трон.
— Тогда что же, мы можем иметь перед собой до тридцати тысяч татарской конницы? — упавшим голосом спросил его коронный гетман.
— Коль уж мы согласились с тем, что сейчас у Тугай-бея не меньше пятнадцати тысяч сабель.
— И завтра хан со своей ордой уже будет здесь, — напомнил Калиновский. — Для татарской конницы, не обремененной никакими обозами, путь от Чигирина до Корсуня — не расстояние.
Потоцкий отдал трубку слуге и, обхватив пальцами виски, почти с минуту сидел молча. Все знали, что курение вызывает у гетмана резкую головную боль. Но сейчас эта боль была вызвана не только табачным дымом.
— Уведите этого… — брезгливо махнул рукой Потоцкий в сторону пленного. — Он нам больше не понадобится.
— Казнить его? — спросил хорунжий, выполнявший роль следователя.
— Я сказал, что мне он больше не нужен, — повысил голос Потоцкий, досадуя на непонятливость офицера. Отдать приказ казнить Галагана после того, как в присутствии всех офицеров он дал слово дворянина сохранить ему жизнь, граф все же не решился. Но казаку и так все было ясно. Не о его судьбе шла сейчас речь. Не его судьба была поставлена на карту в большой «гетманской игре», а судьба сражения, судьба двух армий.
Галаган понимал это. Он знал, на что шел, вызываясь ввести врага в «гетманский блуд».
— Упроси гетмана, чтобы сохранил мне жизнь! — прокричал Галаган, увидев неподалеку от оврага, в который его вели, одного из надворных казаков Потоцкого, который во время допроса выполнял еще и роль переводчика. Хорунжий впервые попал в Украину и не все понимал из того, о чем говорил пленный. — Я согласен провести их через Гороховую Дубраву!
— Попрошу! — Зарудный знал, что это условные фразы, которыми Галаган подтвердил: «Все прошло так, как было намечено». Но в провожатые должен напроситься он, Зарудный [41]. И вести поляков через урочище Гороховая Дубрава тоже должен был он.
Когда Галагана уводили к реке, чтобы там отсечь голову, Зарудный подошел с Библией и пытался перекрестить его. Хорунжий уже знал, что они давно знакомы, как знал и то, что ссориться с Зарудным не стоит, чтобы не вызывать гнев у графа Потоцкого. Этот казак, говорят, когда-то спас в бою то ли самого графа, то ли его сына. Во всяком случае, коронный гетман очень дорожил своим слугой и телохранителем.
— Не надо, — остановил его обреченный. — Твой крест не сильнее креста казачьего гетмана. И молитва твоя по душе моей не затмит молитвы всего войска. Лучше выживи и расскажи, как все было.
Зарудный молча кивнул. Он понимал, что имел в виду обреченный, идущий на смерть с улыбкой гладиатора.
22
Под вечер мимо польского лагеря прошел еще один отряд повстанцев. Он появился совершенно неожиданно и состоял из полутора тысяч конников, вооруженных кто чем: саблями, вилами, какими-то рогатинами. Это был не тот из отрядов, которые казаки пропускали для видимости, а настоящее пополнение, приведенное атаманом Сиробабой откуда-то из-под Монастырища. И мимо поляков повстанцы тоже прошествовали случайно, поскольку о разведке предводитель их не позаботился и поначалу лагерь поляков принял за лагерь Хмельницкого. Атаман гадать не гадал, насколько своевременным оказалось его появление.
А ведь именно прибытие этого «случайного» отряда произвело на поляков ошеломляющее впечатление. Поняв свою ошибку и видя, что поляки даже не пытаются спровоцировать схватку с ними, повстанцы совершенно обнаглели. Они гарцевали у самых валов, вызывали высокородных шляхтичей на поединки, со свистом и гиканьем имитировали атаку. И хотя эта имитация стоила им до десятка жизней, повстанцев это не отрезвило. Но и поляки созерцали кавалькаду с гнетущим предчувствием своего поражения.
— Эй, ляхи, где тут табор Хмельницкого?! — подступил атаман — громадный мужик в лохматой овечьей шапке — к тому месту, где за валами стояли польный гетман Калиновский и его офицерская свита. — Может, к себе примете?
Кто-то из солдат пальнул по нему из ружья и сбил шапку. Что вызвало у атамана приступ смеха, перемешанного с отборнейшей бранью.
— Что ж ты такую шапку споганил, душа твоя ляховская?! Погоди, вон там, за нами, еще один отряд идет, из реестровых казаков. Те с вами по-иному поговорят — ружьями и пистолями!
Потоцкий даже не созывал высшее офицерство, оно само сошлось. И военный совет тоже начался стихийно, каждый понимал: нужно решать, что делать дальше, точнее, нужно решаться.
— Господа, — поднялся коронный гетман, как только все, кто достоин был этого совета, собрались в его большом штабном шатре. — Сегодня у нас еще есть выбор. Сегодня мы еще можем оставить лагерь и уйти на Богуслав, чтобы затем через Белую Церковь отступить к Паволочи. Там мы объединимся с местным гарнизоном, реестровым полком и ополчением, и после этого дадим решительный бой повстанцам. Если же мы не сделаем этого, то уже послезавтра окажемся замкнутыми в лагере, не рассчитывая при этом ни на подкрепление, поскольку ждать его в ближайшие дни неоткуда, ни на обозы с продовольствием. В то время как казаки и татары могут держать нас в осаде столько, сколько понадобится.
Потоцкий выглядел крайне уставшим. Говорил настолько вяло, что казалось, лично ему совершенно безразлично: решит ли совет увести войско или же предпочтет оставаться в лагере. И офицеры почувствовали это.
— Но, выйдя из лагеря, мы окажемся совершенно беззащитными перед превосходящими силами казаков и татар, — возразил Калиновский еще до того, как коронный гетман завершил свою речь. — Уверен, что они даже не станут ввязываться в серьезное сражение, а постоянно будут терзать нашу колонну обстрелами издали и наскоками на обозы и артиллерию.
— И у них будет преимущество, — добавил полковник Адамицкий, ведавший охраной обоза, — поскольку они-то налегке, а мы — скованы тяжелогружеными возами и артиллерией.
— Чего же мы добьемся, сидя в лагере? — нервно поинтересовался Потоцкий, обращаясь к Калиновскому. Мнение полковника его совершенно не интересовало. — Вы же видите, что казаки получают подкрепление почти ежедневно. А как только подойдет войско крымского хана, они станут наседать на нас днем и ночью, не позволяя высунуться за валы.
— А я и не предлагаю ждать, когда прибудет армия Ислам-Гирея. Мы должны завтра же атаковать лагерь казаков. Причем сделать это быстро, нанеся основной удар еще до того, как вступят в бой татары, которых может придержать гарнизон, оставшийся в лагере, — довольно вспыльчиво объяснил свой взгляд на выбор исхода польный гетман.
— Бросившись на штурм казачьего лагеря, мы расчленим свои силы, — вступил в спор князь Корецкий. — Взять лагерь с первого штурма не удастся, поскольку у казаков сильная маневренная артиллерия и мощные укрепления из повозок. Идти с саблями против вил, оглобель и рогачей, штурмуя ограждения, — это значит идти на гибель.
— Тем более что татары могут обойти наш лагерь и ударить нам в тыл, преградив путь к отступлению.
— Зато здесь мы будем сражаться в боевом строю. А в походной колонне мы вообще окажемся беззащитными и беспомощными, как колония муравьев под копытами табуна, — парировал Калиновский. — Неужели вам мало сражения под Желтыми Водами? Ведь если бы вместо того, чтобы бежать из лагеря, Стефан Потоцкий пошел в наступление или же сражался в лагере, то сейчас мы не видели бы перед собой столь мощную армию Хмельницкого. Пусть бы он потерпел поражение, зато сохранил бы честь польской армии и обескровил повстанцев. Говорите прямо: вы что, хотите, чтобы наше войско покрыло себя под Корсунем таким же позором, как и под Желтыми Водами? Если так, тогда мне просто-напросто нечего больше делать в такой армии. Ибо такой армии польный гетман не нужен.
Еще почти час продолжался этот спор, порождая сторонников как Потоцкого, так и Калиновского. Но в конце концов печальный пример Желтых Вод все же заставил большинство высокородных проявить осторожность и больше склоняться к тому, чтобы принять бой в лагере, делая вылазки и вынуждая казаков к переговорам.
Почувствовав, что совет может окончательно остановиться на предложении польного гетмана, Потоцкий вновь подхватился.
— Я выслушал мнение каждого из вас, господа. Выслушал внимательно, и весьма признателен вам за откровенность. Однако высшие интересы Польши, ответственность за судьбу армии и судьбу этой войны вынуждают меня принять то единственно верное решение, которое, будучи коронным гетманом, я не могу не принять. Завтра на рассвете мы оставляем лагерь, оставляем здесь все тяжелые возы и, создав походный лагерь из повозок, внутри которого будут двигаться пехота и артиллерия, — уйдем в сторону Богуслава. Прикрывать эту походную крепость будет конница.
— …Которую татары и казаки станут расстреливать до самой Белой Церкви, даже не позволяя нам остановиться и создать нормальный укрепленный лагерь, — язвительно прокомментировал это решение Калиновский. — Завтра же на рассвете я прикажу полкам драгун и пехоте пойти штурмом на казачий лагерь. Если мы и будем отступать, то с боем.
— Приказывать здесь имею право только я! — побледнел во гневе граф Потоцкий. — Только я, великий коронный гетман, имею право вывести войска из лагеря и направить туда, куда сочту необходимым. Завтра же, как только мы протрубим сбор, каждый из вас должен быть на своем месте. И пусть только кто-нибудь осмелится не выполнить мой приказ!
* * *
Распустив военный совет, Потоцкий какое-то время сидел в одиночестве — состарившийся, опустошенный, угнетенный страшными предчувствиями.
Он добился своего. Он настоял. Как и положено, его слово оказалось последним и решающим. Однако сейчас, оставшись наедине со своими сомнениями, коронный гетман вдруг с ужасом подумал, что, возможно, его упрямство и станет главной причиной гибели армии, которая здесь, в укрепленном лагере, за валами, рвами и повозками, еще имела хоть какой-то шанс выжить, добиться перемирия или хотя бы просто спокойно молиться в промежутке между боями. Что, оказывается, тоже иногда немаловажно. А там, за стенами полевой цитадели… Что будет там?
— Если уж уходить, то лучше всего — через урочище Гороховая Дубрава.
«Кто это произнес?» — Потоцкий с трудом прервал поток своих сумбурных размышлений и, подняв голову, увидел при свете угасающих факелов приземистую фигуру своего казака, слуги, воина, посыльного, порученца и просто человека, который напоминал ему о доме, о родовых дворцах в Каменце и Варшаве. О многом таком, что начинаешь ценить только на войне, да и то в самый трудный момент.
— Урочище? — спросил уже вслух. — А где здесь урочище?
— Километрах в десяти отсюда.
— Что, очень удобное место для западни? Как урочище Княжьи Байраки под Желтыми Водами?
— О таком урочище — Княжьи Байраки, я, господин граф, ничего путного не знаю. А в этих, которые под Корсунем, бывать приходилось. Как-то с реестровым полком своим бунтовщиков в них вылавливали.
— Бунтовщиков? Значит, это урочище еще более погибельное, чем то, что под Желтыми Водами, — окончательно пал духом коронный гетман. — Будьте вы все прокляты на земле этой сущие, вероотступники и христопродавцы.
Зарудный раздосадованно покряхтел, потоптался у входа и пробубнил:
— Командующий — вы, а значит, вам виднее. Спать прикажете в шатре или в хижине? Чтобы на случай обстрела из орудий…
— На смертном одре. Такой сон тебя наверняка возрадует, а, казак-христопродавец?
— Скорее сам на него лягу. Разве я когда-нибудь предавал вас? Хоть в чем-то перед вами провинился?
Потоцкий покряхтел точно так же, как только что кряхтел один из его надворных казаков.
— Что это за урочище? Ты действительно бывал в нем? Ах да, ты же и родом отсюда, из-под Корсуня.
— Если казаки слишком насядут на нас, мы сможем разбить лагерь посреди урочища. Во многих местах там болота, по которым Хмельницкий ни орудия не провезет, ни конницу свою не пропустит. Татары в лесу, да еще густом, болотном, — не вояки. Пройдем урочище — там и до Белой Церкви на один переход. Замок, гарнизон, ополчение…
— Дорогу до этого урочища знаешь?
— Чего ж не знать? Совсем недавно на охоту с молодым графом Стефаном выезжал, царство ему…
— Так это, значит, вы туда на охоту выезжали… — полусонно пробормотал командующий. Даже упоминание о сыне в этот раз не растревожило его. — Ведь предашь же, русич?
— Служил вам верно, и погибать буду с этой же верой. Вот вам крест.
— Крест?! Да что мне твой крест?! Но кто-то же должен повести. Пойдешь в авангарде, у стремени полковника Бержевского. Но знай, что бы с нами ни случилось, первая сабля падает на тебя.
— Это уж как водится, — смиренно согласился Зарудный. — Да к тому же, на войне. Добро бы еще ваша сабля, чтобы острием — как святым перстом.
«Предаст и продаст, Иуда, — почти с ненавистью посмотрел ему вслед Потоцкий. — Как предали сотни других реестровых казаков; как покинули в самые трудные минуты моего сына Кричевский и Джалалия. Как предал меня и всю Речь Посполитую этот поляконенавистник Хмельницкий. Я почти уверен, что он предаст, но не изрублю его сейчас. Не возведу на костер, не исполосую каленым железом. Нет-нет, так и пойду за ним на погибель свою, на срам великий. На падение славы и вознесение души. Видно, уже завтрашний день будет таким, что войдет в историю Польши как день избиения невинных. Еще один фатальный день несчастного, как сама Польша, рода Потоцких. Но что я могу поделать? Кто укажет мне, где путь истины и спасения, а где — предательства и гибели?»
23
Валы были разрыты, рвы засыпаны, весь огромный лагерь вдруг оказался вскрытым, словно гнойная рана земли, которая выдавливала и выдавливала из себя все то, чем она, эта земля, была пресыщена, и что — обреченное на гибель и тлен — уже не могло быть принято ею, прощено и заупокойно отпето ветрами великой степи.
Они выходили и выходили из-за земляных насыпей, представлявших собой как бы гигантские ворота лагеря, — конники, повозки, нагруженные всем тем, что привезено было из собственных имений и награблено уже в походе. Со всем тем богатством, которым могли оказаться загруженными обозы только одной-единственной, наиболее растленной и падшей в роскоши армии мира — польской. Семенящая за возами челядь, пехотинцы, кареты, артиллерийские повозки и санитарные кибитки; и снова ряды пехоты, за которой следовала густая лава кавалерии.
Выплеснувшись на огромную равнину, которая подступала к лагерю со стороны Богуслава, вся эта масса, подчиняясь уже даже не командам и приказам, а какому-то заложенному в глубины инстинкта миропорядку, выстроилась в огромный четырехугольник, составленный из восьми рядов повозок. А в середину этого каре, под защиту походной крепости, уже спешили войти артиллеристы и пехотинцы, в то время как по внешнему обводу выстраивались эскадроны драгун, гусар и плохо организованного и еще хуже обученного дворянского ополчения.
Стоя на сторожевой вышке, Хмельницкий с каким-то внутренним содроганием наблюдал, как, выводя из общей массы конницы наиболее опытные ее части — драгун, гусар и казаков реестра, польские генералы формируют ударные отряды авангарда и арьергарда, разъезды и небольшие группы дальнего боевого охранения.
В какие-то минуты Хмельницкий попросту забывал, что теперь уже для него, бывшего начальника штаба реестрового казачества, эта армия стала вражеской; что он, гетман, уже не имеет к ней никакого отношения. Только поэтому он совершенно искренне досадовал по поводу неповоротливости обозников и в то же время восторгался вымуштрованными колоннами пехоты, особенно наемной, которую узнавал по той особой дисциплине, которая подвластна только прусским, баварским да саксонским профессионалам войны. Поэтому начинал любоваться почти идеально выстроенной мощной походной крепостью, формам которой здесь, на равнине, мог бы позавидовать любой римский полководец.
И хотя Хмельницкий очень плохо представлял себе, как вся эта восьмирядная обозно-пехотная масса будет двигаться дальше, как только равнина закончится и начнутся бесконечные холмы, овраги и косогоры, тем не менее признавал, что начало отступления этому несостоявшемуся триумфатору [42] Потоцкому организовать все же удалось. И что его отход больше смахивает на организованное отступление, нежели на бегство.
Впрочем, все это пока еще только парадное шествие. Настоящее же бегство, как понимал Хмельницкий, начнется чуть позже. Когда польская армия окажется в узкой котловине урочища, вся эта перегруженная обозами военная сила перемешается в не поддающуюся никакому осмыслению, никаким приказам и никакому порядку мешанину, в водовороте которой покончил бы жизнь самоубийством всякий уважающий себя, привыкший к непогрешимости римских легионов военный трибун.
— Чего мы ждем, гетман? — вздыбливался вместе со своим скакуном полковник Ганжа. — Какого дьявола?! Ударить нужно сейчас, пока они еще не разобрались и пока офицеры не навели порядок.
— Это армия, полковник, — спокойно ответил Хмельницкий, вновь припадая к окуляру подзорной трубы.
— Ну и что, что армия? — от нетерпения обтесывал саблей опоры вышки воинственный атаман повстанцев. — Громить ее нужно уже сейчас, пока она больше напоминает великосветское скопище перед крестным ходом!
— Это армия, — с непонятным ни Ганже, ни остальным полковникам и командирам отдельных отрядов, собравшихся здесь, на возвышенности, уже прозванной Гетманской Горой, упрямством повторил Хмельницкий. — Ей нужно дать возможность выстроиться, достойно оставить лагерь и уйти.
— Иначе она может вернуться назад, за валы! — осенило Ганжу туманным проблеском замысла командующего. — Но пока все это войско войдет в лагерь, мы разгромим его.
— Тогда будет сложнее, — наконец опустил трубу Хмельницкий. — Но дело даже не в этом. Перед нами хорошая, сильная армия, которую попросту нужно реорганизовать, избавив от излишней, непригодной к службе ополченской шляхты, раз и навсегда отучив от непозволительной походной роскоши.
— Так мы бить их собрались, — вмешался в этот странный диалог Джалалия, — или принимать королевский парад?
— …Прежде всего нам стоит поучиться у поляков тому, как нужно организованно, на виду у врага, оставлять лагерь, сохраняя хоть какую-то степень готовности к сражению. Сам наблюдаю такое впервые. У Стефана Потоцкого этого не получилось. Там было обычное бегство, а здесь — полюбуйтесь…
Полковники еще с минуту стояли у подножия вышки, задрав головы и осмысливая сказанное. А тем временем повстанческий триумфатор уже отдавал первые распоряжения.
— Ганжа, ты со своим полком должен будешь непрерывно терзать авангард. Хлопцы там подобрались воинственные, обозом не обремененные. Но и ты должен действовать небольшими отрядами, наскоками, расстреливая противника издали, из луков и ружей. Наскоки вроде бы мелкие, но непрерывные.
— Пляска в «чертовом круге».
— Начнешь ее только тогда, когда поляки подойдут к урочищу. И действовать будешь с флангов.
— Все понял! Ухожу в степь, гетман! — пропылил пологим склоном Ганжа.
— Ты, Карадаг-бей, шли гонца к мурзе. Ему достанется правый фланг. Но тоже до урочища не нападать и держаться на горизонте. Проводники к мурзе уже посланы.
— Гонца к Тугай-бею! — хрипло прокричал по-татарски представитель перекопского правителя при гетманской ставке, обращаясь к своему адъютанту.
— Савур, полковник Кривонос со своим корпусом уже ушел?
— Еще вечером.
— Весь корпус ушел?
— Еще вечером.
Однотипный ответ адъютанта покоробил бы Хмельницкого, если бы он не вспомнил, что Савур докладывает ему об этом уже по меньшей мере третий раз.
— А где обоз с лесниками и рвокопателями?
— Тоже ушел. Еще вечером.
— Полковник Джалалия, за тобой левый фланг! Но пока что уводи своих в степь, чтобы не вспугнуть Потоцкого. Полковник Глух, через пять километров, еще до подхода к урочищу, начнешь прощупывать спину арьергарда. Подбери лучших стрелков — лучников и мушкетников. И хотя луки у твоих сорвиголов не в чести, вооружи их всеми подаренными Тугай-беем.
— Вот увидишь, гетман: из этого арьергарда, польского коронного, только ошметья полетят! — понесся к лагерю невозмутимый, сдержанный полковник.
— Атаман Сиробаба, ты со своим войском немедленно входи в польский лагерь. Все, что там оставлено поляками, сохранить от разграбления. Лагерь закрыть, и татар к нему не подпускать. О добыче мы с Тугай-беем поговорим после сражения.
— Не волнуйся, отстоим.
— Чигиринский полк, а также сотня Орданя и полк Лютая остаются в моем резерве.
Отдав еще несколько распоряжений, Хмельницкий вновь забыл о существовании свиты и прильнул к подзорной трубе. «Только бы Зарудному удалось довести их до урочища, — прощупывал взглядом почти неуязвимый левый фланг походной цитадели. — Только бы удалось…»
Он уже предчувствовал победу. Предвкушал ее. Он полагался на смекалку полковника Кривоноса, верил неистовой люти Ганжи и азиатскому коварству Джалалии, успевшему замаскировать сотню своих драгун под татарское воинство. На тот случай, если сами татары вдруг по каким-то причинам откажутся вступить в бой, эта сотня должна была наводить ужас на польскую пехоту и обозную челядь.
Рассчитывал он и на тех нескольких своих тайных эмиссаров, что были завербованы Зарудным и которые в нужный момент готовились бежать из польской колонны, угоняя и калеча лошадей, сея слухи и панику.
Узнав вчера, что Потоцкий все же решился уйти из лагеря, Хмельницкий злорадно рассмеялся. Ничему не научили коронного гетмана уроки Желтых Вод, ничему! Но сегодня, глядя, как из-за бездарности командования идет к своей гибели одна из лучших европейских армий, гетман вдруг понял, что это его совершенно не радует. Ибо это идет на гибель армия, офицером которой он еще недавно считал себя, армия, под знаменем которой сражалось несколько поколений мужчин его рода.
Войско это конечно же обречено на гибель. Он разгромит его с той же немилосердной жестокостью, с какой разгромил корпус Стефана Потоцкого. Но при этом Хмельницкий не мог избавиться от мысли, что в этих полках пребывают сейчас десятки тысяч его соотечественников. И что его победа будет оплачена и оплакана сотнями тысяч его польскоподданных сограждан. Поэтому проклят будет ими род его, осквернены бранными словами еще не преданные тлену забытья его кости.
— Савур!
— Здесь я, гетман!
— Два оставшихся в лагере орудия придать полку Джалалии для растерзания арьергарда!
— Идешь гонцом к полковнику Джалалии! — вырвал Савур из группы казаков-порученцев молодого повстанца.
Хмельницкий в последний раз взглянул на колонну поляков.
Развернув знамена, плотно сомкнув ряды повозок и шеренги пехотных рот, под звуки барабанов польская армия, не приняв боя, уходила.
Она уходила из-под разграбленного и сожженного ею Корсуня, чтобы навсегда остаться под ним. Уходила в бесславие, в небытие.
Глядя ей вслед, ее могильщик чувствовал себя то въезжающим в «Восточный Рим» триумфатором, то клятвоотступником и предателем, удачно использующим свое полководческое коварство при трусливой наивности вражеских предводителей.
Но только это истории останется неведомым.
Польская армия уходила в… Корсунскую битву, а земля содрогалась под ней, и воронье слеталось на сабельный пир, в то время как небеса благословляли своими вещими видениями и тех, кто в этом сражении будет убит, и тех, кто возгордится своим убийством.
24
Каре, образованное повозками, пехотой и спешенными драгунами, все еще казалось Потоцкому почти неприступным. И он даже приказал оставшейся челяди браться за лопаты, чтобы насыпать за повозками валы. Но в это время случилось то, чего коронный гетман никак не мог предвидеть. Отряд все еще не спешившихся драгун, набранных из реестровых казаков, вдруг вырвался из общего каре и, демонстративно приняв сторону повстанцев, не стал переходить к ним, а тотчас же открыл огонь по охране обоза. Проходя мимо повозок, реестровики беспощадно рубили конных и пеших, и пехотинцы, которые никак не могли понять, что происходит, вместо того чтобы сопротивляться им, кричали: «Мы же свои! Побойтесь Бога, в кого вы стреляете, кого рубите, драгуны?! Мы же свои!»
— Калиновский, — приказал коронный гетман, — берите отряд и немедленно закройте брешь, образованную этими предателями! Пока в нее не хлынули казаки Хмельницкого.
— А где я возьму этот отряд? — нервно бросал польный гетман своего коня то в одну, то в другую сторону, словно бы сам искал брешь, через которую можно было бы оставить обреченную армию.
— Снимите с других участков! Введите туда артиллеристов, челядь, слуг! Ради всех святых, делайте же что-нибудь! Какого дьявола вы вертитесь возле меня?! Вы же видите брешь! Неужели не понимаете, что мы гибнем?!
— Я понял это, еще находясь в прекрасном, хорошо укрепленном лагере, который нам пришлось оставить по вашей милости.
— Сейчас не время спорить. Эй, кто-нибудь из офицеров!
Но рядом не было никого, кто бы откликнулся на его зов.
Наконец подразделения драгун и пехотинцев опомнились и начали отстреливаться, отгоняя перебежчиков все дальше и дальше. Но и повстанцы тоже прекратили стрельбу, пытаясь выяснить, что происходит. Драгунов было до двух тысяч. Ротмистр Куриловский, который вывел их, мчался теперь, размахивая повязанным на острие сабли белым платком, в просвет между казаками и татарами. И кто-то стрелял по нему, кто-то свистел ему вслед, а кто-то пытался утихомирить всех остальных, доказывая, что поляк едет к ним на переговоры.
Выстрелы затихли, как только Ганжа с пятеркой казаков ринулся ему навстречу.
— Со мной драгуны реестра! — еще издали предупредил его Куриловский. — Мы не желаем проливать кровь своих братьев по вере!
— О вере вы могли бы вспомнить чуточку раньше.
— Но все же я привел их! Вот они! — указал ротмистр на движущуюся вслед за ним лавину кавалеристов, лихую и грозную.
— Так объясни им, что они не туда наступают!
— Мы пока еще только переходим к вам, а не наступаем!
— Хорошо, воссоединяйтесь с моими казаками!
— Как бы мы не изрубили друг друга! Мы ведь в польских мундирах!
— Если кого и срубят мои казаки по ошибке, Бог им это простит, — заверил полковник.
А тем временем у штабных карет гетманов происходила яростная стычка коронного и польного гетманов.
— …О том, что мы погибаем, я знал еще в лагере под Корсунем, — всей своей мощной тушей надвигался на Потоцкого польный гетман [43]. — Не я ли требовал, чтоб мы остались там и сражались, как подобает воинам Речи Посполитой?!
— Что же вам помешало остаться?
— А то, что, по глупости короля и сената, коронным гетманом Польши являетесь вы.
Потоцкий выхватил саблю. Калиновский встретил его удар своим клинком. Однако оказавшийся рядом адъютант коронного гетмана успел разъединить их, оттеснив Калиновского к его карете.
— Это величайшая трагедия Польши, — все же решил до конца очистить себе душу Мартин Калиновский, потрясая саблей и пистолетом, — что армией этой благословенной Богом империи все еще командует такая безбожная бездарь! Которой нельзя поручить командование даже ротой ополченцев.
Пока в квадрате между штабными каретами и повозками продолжалась эта постыдная перепалка, ротмистр Радзиевский пробивался к нему, пытаясь увидеть одного из гетманов. Он был послан князем Самуилом Корецким, который предлагал повернуть всю армию лицом на восток, чтобы, прорвав кольцо окружения, вновь вырваться на равнину. Там, прикрываясь косогорами, за которыми начиналось урочище, можно было бы разбить лагерь и организовать хоть какое-то сопротивление. Сам князь, прибывший со своей Волыни с трехтысячным полком дворянского ополчения, не решался оставлять его в эти минуты, побаиваясь, как бы часть его, состоящая из слуг и надворных казаков, не ушла к повстанцам вслед за полком Куриловского.
— Ваша светлость, — едва протиснулся Радзиевский между повозками, — я от князя Корецкого!
— Какого черта ему нужно? — оглянулся на ротмистра Николай Потоцкий. — Передайте, что у меня нет подкреплений. У меня нет их, нет, нет!
— Князь просит развернуть войска!
— У меня нет ни резерва, ни армии, — даже не пытался выслушать его Потоцкий, поскольку все еще адресовался к польному гетману. Невзирая на то, что Калиновский люто сплюнул в его сторону и подался на левый фланг, где против наседавших казаков Кривоноса сражался преданный ему полк ополчения, усиленный двумя ротами наемников.
— Князь Корецкий просит повернуть войска и прорываться на равнину. — Все ближе и ближе протискивался к коронному гетману Радзиевский. И только две пули, пробившие стену кареты рядом с Потоцким, заставили наконец графа забыть о резерве и, сойдя с коня, под прикрытие повозки, выслушать гонца-ротмистра.
— А каким образом я смогу развернуть теперь всю эту орущую и паникующую массу? — озлобленно парировал гетман доводы Корецкого. — И потом, мы держимся лишь до тех пор, пока стоим под прикрытием повозок. Пока держим каре.
— Но каре уже, по существу, нет. Еще полчаса — и его расчленят.
— Передай Корецкому, что я приказал: стоять там, где он со своим полком стоит. Сражаться.
— Так и передам, ваша светлость! — потускневшим басом заверил его ротмистр, понимая, что зря теряет время.
— И еще передай: пусть половину полка перебросит на помощь артиллеристам и челяди, заполнившим брешь после дезертирства драгун реестра.
— Но они ушли с правого фланга. А князь находится на левом, поддерживает арьергард. Прикажите ему оставить лагерь и пойти на прорыв.
— Он не прорываться, он бежать хочет. К своим волынским имениям. Если только он осмелится сделать это, я прикажу казнить его как предателя. Вместе с тем офицером, что увел изменников-драгун.
— Ясно, ваша светлость.
Корецкий понимал, что коронный гетман не решится принять его план. Как понимал и то, что всю армию спасти все равно не удастся. Следовательно, спасать нужно хотя бы части ее, тех, кто еще может и способен спастись.
* * *
Пока Радзиевский протискивался сквозь запруды из подвод, орудий и свалки из трупов, князь успел собрать вокруг себя до двух тысяч воинов, в основном своих земляков.
— Что приказал коронный гетман?! — еще издали заметил он рослого ротмистра, поднявшегося на небольшой, поросший сосняком холмик.
— Стоять на месте!
— В таком случае я не слышал его приказа.
— Но он приказал стоять!
— Его приказы, как всегда, доходят с большим запозданием, и уже не имеют никакого смысла! Поручик Левандовский!
— Здесь я, господин князь!
— Хорунжий Гейдельский!
— Готов, господин генерал. — Корецкий требовал от своих офицеров, чтобы они называли его по-европейски — генералом. И давно предлагал коронному гетману провести реформу армии, чтобы ввести в ней германскую табель о рангах. Вплоть до чина фельдмаршала.
— Слушайте меня! — Перешел князь с седла на нагруженную доверху повозку. Теперь, стоя на ней, он мог видеть почти весь свой отряд. И воины тоже могли видеть и слышать его. — Бросайте все имущество, бросайте обоз! Вон там, на возвышенности, цепь казаков. Мы должны пробиться к ним, прорвать окружение и в обход урочища уйти в сторону Стеблова, а уже оттуда — на Богуслав.
— Но мы не прорвемся! Нам лучше остаться здесь! — крикнул кто-то из офицеров.
— Есть приказ коронного гетмана! — поддержал его другой.
— Приказов коронного гетмана больше не существует! Здесь приказываю я! — вернулся князь в седло. Без шлема, с распущенными волосами, закованный в мощный германский панцирь, он многим казался сейчас тем единственным рыцарем-богатырем, который только и способен разметать врага, вырваться из кольца и спасти их. Разметать и спасти.
— Все, кто знает князя Корецкого! Все, кто служит мне! Все, кто любит меня! По коням! За мной, на прорыв! С нами Бог!
— С нами Бог! — откликнулись сотни глоток. И в пространство между растянутыми в разные стороны повозками ринулись первые ударные эскадроны.
— С нами Польша! — вдохновлял их князь Корецкий, входя в центр небольшого пока еще клина драгун.
— С нами Польша!
Несколько слуг князя опустошили повозки и погнали лошадей по обе стороны клина. Именно они помогли затем разъединить казаков. Хотя возчики их были изрублены, эти шесть-семь повозок образовали небольшой коридор, к которому все устремлялись и устремлялись мятежные волыняне, а также все присоединившиеся к ним.
— Остановите их, ради Бога! — возносил к небу руки и молитвы польный гетман Калиновский, наблюдавший эту страшную сцену еще одной измены. — Остановите же их кто-нибудь!
Однако останавливать Корецкого уже было некому. Не было такой силы ни по эту, ни по ту сторону повозочного вала.
Поняв, что вместе с полком князя Корецкого уходит его последняя надежда на спасение, ротмистр Радзиевский выхватил у какого-то зазевавшегося обозника длинное копье-ратище и, зажав его под мышкой, устремился вслед за драгунским арьергардом. Взяв поводья в зубы, с копьем в одной и саблей в другой руке, он вышиб из седла какого-то метнувшегося ему наперерез вооруженного вилами крестьянина-повстанца. Левой чуть ли не до седла рассек запорожца, только что лихо разделавшегося с двумя драгунами и так и не понявшего, откуда появился еще один, последний в этом отряде, розовощекий громадина. А когда шея его коня оказалась навылет пробита татарской стрелой, ротмистр оперся о копье словно о шест и в неповторимом прыжке перескочил в седло только что убитого драгуна.
Оказавшись совершенно обезоруженным, он какое-то время скакал, пригнувшись к гриве коня, а поравнявшись с раненым офицером, медленно опрокидывающимся навзничь, сумел выхватить у него из приседельной кобуры пистолет.
Первого же метнувшегося ему наперерез казака он уложил выстрелом из этого пистолета. Однако время было упущено. Еще двое казаков бросилисъ за ним в погоню. Услышав позади себя выстрел, ротмистр понял, что это его божественный шанс. На ходу разворачивая коня, он медленно словно смертельно раненный, вывалился из седла, но уже тогда, когда конь помчался в сторону казаков. Он слышал, как один из казаков крикнул:
— Смотри, хороший конь!
— Там их целый табун!
— Может, обыскать этого ляха?!
— Все его богатство осталось на возах! Его возьмут без нас.
Лежа вниз лицом, Радзиевский чуть приоткрыл глаз и видел, как ближайший казак развернулся в нескольких шагах от него и, решив, что поляк убит, помчался туда, где завершалась схватка и где наступала пора делить чужое богатство, подсчитывать потери и трофеи.
Заполнить брешь, образовавшуюся после ухода полка князя Корецкого, польный гетман уже не сумел. Ворвавшись в нее, казаки оказались внутри лагеря, и сражение превратилось в побоище.
Выходя из лагеря под Корсунем, коронный гетман воскликнул, что этот день «станет днем убиения невинных».
Каждый, кто слышал эти его слова, мог теперь воочию убедиться, что они оказались вещими.
25
Почти час ротмистр то уползал от поля сражения по молодой траве, то, пригнувшись, перебегал от куста к кусту. Пока мимо него с воем и гиканьем галопировал небольшой отряд татар, Радзиевский лежал в вымоине у подножия холма, испытывая самые жуткие минуты в своей жизни. Он по-всякому представлял свою гибель, но только не под копытами татарского чамбула.
После двух суток блуждания по полям и перелескам, голодный, изодранный и вконец обессиленный, он случайно наткнулся на небольшой отряд повстанцев человек из двадцати, которые — кто на повозках, кто верхом — н, аправлялись на поиски армии Хмельницкого. Весь вечер ротмистр таился в небольшой рощице, а когда повстанцы уснули, подкрался к часовому, задремавшему под деревом в нескольких метрах от привала, задушил его и, вскочив в седло, помчался туда, где, по его предположениям, должно было находиться мощное, хорошо укрепленное местечко Кальник, все еще, очевидно, остававшееся в руках польского воеводы.
Он проскакал всю ночь. А наутро увидел перед собой на равнине большой отряд, во главе которого ехало несколько облаченных в тяжелые кольчуги воинов. Один из них — в гривастом спартанском шлеме — показался Радзиевскому на удивление знакомым.
Когда всадники приблизились, ротмистр уже едва держался в седле, и ему было совершенно безразлично, кто эти люди, свои или повстанцы.
— Уж не вы ли это, ротмистр Радзиевский? — услышал он сквозь обморочную дрему приправленный странным акцентом голос… который мог принадлежать только князю Одар-Гяуру.
— Возможно, и я, — едва слышно согласился беглец. — Но на всякий случай спросите, кто я на самом деле.
Приблизившиеся оруженосцы князя — два рослых норманна — с двух сторон попридержали его, не позволив вывалиться из седла.
— Откуда вы и как оказались здесь? — еще больше приблизился к нему князь, но прежде приказал одному из норманнов осчастливить поляка несколькими глотками водки.
— Кажется, вы идете на помощь графу Потоцкому? — спросил ротмистр, немного взбодрившись.
— Я получил именно такой приказ.
— Можете не спешить, князь. Армии Потоцкого больше не существует.
— Вообще не существует?! — не поверил князь.
— Она полностью разгромлена. Сам коронный гетман или погиб, или попал в плен. Сие мне неведомо. Перед вами один из немногих, кому удалось спастись, прорвавшись вместе с полком князя Корецкого [44].
— Бегством, конечно?
— Бегством, — покорно признал гордый шляхтич. — Иного способа спастись при полном разгроме воинство мира так и не выдумало.
— Но я могу положиться на ваше слово дворянина и офицера? Армия коронного гетмана действительно погибла?
— Окружена и разгромлена. В этом можете не сомневаться.
Князь Гяур переглянулся с ближайшими офицерами.
— Это совершенно меняет дело, — проговорил полковник Улич. — Мы получили приказ прийти на помощь коронному гетману. Но если ни его, ни армии уже не существует…
— …То это спасает нас от необходимости вступать в сражение с армией повстанцев, которой мы со своим небольшим корпусом противостоять все равно не способны, — развил его мысль Хозар.
— В таком случае мы уходим на Винницу, — сформулировал их сомнения в четкий приказ генерал Гяур. — И там ждем новых распоряжений.
— Я понимаю, что вам не хочется сражаться против своих единоверцев, генерал, — едва заметно улыбнулся ротмистр, жадно поглощая поданный ему кем-то кусочек походной лепешки. — Сражаться против Хмельницкого вам, русичу, который видит Украину своей союзницей в борьбе за княжество Острова Русов, просто бессмысленно, потому что…
— Не правда ли, при очень странных обстоятельствах встречаемся мы с вами, ротмистр? — рассмеялся князь, прерывая его и уходя от каких бы то ни было объяснений.
— И, заметьте, вновь по дороге на Каменец.
— А какие прекрасные дни мы пережили в этом городе! — поддержал его Гяур.
— Неужели эти воспоминания не затмевают даже памяти о пылкой Франции и француженках?
— Могу заверить вас, ротмистр, что стреляют одинаково убийственно и здесь, и на полях Фландрии.
— Но и целуют тоже одинаково страстно. Особенно если и там и здесь целует француженка.
— Вам-то откуда знать, как она целует?
— Да уж догадываюсь.
— Извините, ротмистр, но вызывать вас на дуэль не стану.
И теперь уже рассмеялись оба.
— Полк, — скомандовал тем временем Улич, — кругом! На Винницу!
— Нет, ротмистр, дни, которые мы провели… — продолжил их диалог Гяур, — и которые еще проведем…
— В Каменце…
— …Никакая Франция…
— …И никакой разгром под Корсунем затмить не смогут.
— Так это ваше побоище произошло под Корсунем?
— Можете не сомневаться, что очередной срам польской армии так и войдет в историю войн как погибельная Корсунская битва.
26
Его вдруг охватило опасение, что битва все еще не выиграна, что поляки еще сумеют прорвать окружение и уйти в сторону Днепра. Лес в той стороне оказался довольно редким, но еще более редким представлялся ему заслон из казаков, замыкающих этот бурлящий каньон, словно забытый Богом и чертями котел ада.
Это было опасение полководца, уже вкусившего уверенности и ощутившего вкус победы и теперь даже мысли не допускающего, что победа может оказаться не столь кровавой и яростной, не столь величественной и впечатляющей, как бы ему хотелось.
— Где Кричевский?! — оглянулся командующий на сотника Савура.
— Там, — указал сотник острием сабли куда-то вдаль.
— А где теперь Чигиринский полк?
— В резерве, у озера.
— Резервный полк, сюда! Всех, кто способен держать в руках саблю или оглоблю, под хоругвь гетмана!
Оказалось, что в запасе у него был уже не весь полк, а всего лишь две его сотни. Остальные были уведены Кривоносом — единственным, кто имел право распоряжаться резервом, — и теперь сражались где-то за завалами, где застряла в болотах артиллерия Потоцкого. Именно там наиболее боеспособный польский полк, состоящий в основном из наемных германских драгун, пытался прорваться через топи и завалы, проложив путь из окружения всему остальному войску.
Хмельницкий со своим резервом прибыл вовремя. Поняв, что восточный склон урочища — самое слабое место в окружении, польские пехотинцы сумели прорваться здесь через окопы и завалы и теснили казаков все дальше в глубь редколесья.
— Где татары? Куда девались ордынцы Тугай-бея?!
— Ушли к низинным завалам, — объяснил какой-то казак, только что сваливший ударом копья ляха-пехотинца. Сам спешенный, он стоял за крупами двух убитых, упавших друг на друга коней словно за редутом, с ловкостью жонглера орудуя обломком копья и длинной драгунской саблей.
— Кто им приказал?
— Польские обозы там.
— Шакалы чертовы! — выругался Хмельницкий. — Даже в бою о грабежах думают.
Пешие и конные казаки резерва ворвались в эту схватку с фланга и, пройдя по всей равнине до крутого изгиба склона, очистили ее от поляков уже в тот момент, когда, казалось, никакая сила не способна удержать их от прорыва. Оттеснив остатки появившейся польской конницы назад, за заранее заготовленные казаками Кривоноса окопы, Хмельницкий приказал закрепиться там и не пропустить через себя ни одного поляка.
— Нам не бегство их нужно! Нам нужен полный разгром! Чтобы вся Польша — от Львова до Поморья — содрогнулась.
Второй, уже более слабый натиск польских драгун казаки отбили из мушкетов и пистолей. Убедившись, что оборона здесь наладилась, Хмельницкий погнал коня туда, к низине, где, в болотах, вершился разгром польской артиллерии и значительной части обоза.
Тот казак был прав: не менее сотни татар топталось по заболоченной низине, несмело пытаясь преодолеть илистый ручей, за которым шла схватка реестровиков Кривоноса с поляками. Тропы и вообще местности ордынцы не знали, а терпения для того, чтобы обойти это болото, у них тоже не хватало. Этим-то и воспользовался Хмельницкий.
— Воины, — обратился он к топтавшим болото аскерам по-татарски. — Слушайте приказ Тугай-бея! Все за мной! Мы прорвем ряды поляков вон там, чуть левее, и захватим эти обозы! Они ваши — таков мой приказ и приказ Тугай-бея.
Его слова тотчас же повторил оказавшийся неподалеку татарский сотник. Со всех сторон болота послышались такие властные окрики и команды, словно каждый второй в этом войске был командиром чамбула.
— Как зовут, аскер? — обратился гетман к подъехавшему сотнику перекопцев.
— Ибрагим-Капи.
— Мы соберем твоих воинов и вместе с казаками ворвемся в лагерь, к каретам коронного гетмана Потоцкого, — поражал он ордынца своим знанием татарского языка.
— А ты кто такой? — недоверчиво осмотрел Ибрагим-Капи дорогие одежды казака.
— Сераскир казаков, гетман Хмельницкий.
— Так ты и есть тот самый Хмельницкий?! Когда-то ты спас меня! — прокричал сотник и поторопил выходящих из болота соплеменников таким злым, пронзительным голосом, что к нему вернулись бы даже утонувшие в этом болоте.
— Когда и где это произошло? — не понял гетман.
— Ты освободил меня из плена, вместе с сыном Тугай-бея. Я был в его личной охране.
— Вспомнил, — подтвердил Хмельницкий, — конечно, вспомнил! — хотя ни под какими пытками лица этого степняка вспомнить не смог бы. — Ты был одним из тех троих, которых я освободил первыми. За тобой долг: теперь ты должен помочь мне.
В редколесье, в котором распоряжался Савур, отряд Хмельницкого вернулся как раз в то время, когда с противоположного склона по польскому лагерю вновь ударила примолкнувшая было артиллерия. Очевидно, поляки хотели смять бомбардиров, и те с помощью пехотинцев-реестровиков едва сумели оттеснить их. Попав под новый град ядер, польская колонна окончательно превратилась в месиво из коней и людей, из тех, что уже погибли и кому еще только предстояло быть убиенным.
Поскольку ядра ложились в низинную равнину Гороховой Дубравы, гетман воспользовался этим, чтобы вместе с Савуром объединить татар и казаков в одну конно-пехотную лавину и ринуться по склону вниз. Причем ниже себя по склону казаки пустили нагруженные камнями повозки, которыми прикрывались, забрасывая камнями прорывающихся поляков. Татары же гнали впереди себя небольшие табуны коней, оставшихся без наездников. Взбесившиеся под ударами плетей и невообразимым воем человеческих глоток, животные накатывались с крутого склона на польских пехотинцев, сбивая их, забивая копытами и натыкаясь на их сабли и пики.
Скатившись со склона, остатки польского полка бросились туда, к началу болотистого оврага, посреди которого, на небольшой тверди словно на острове оказались кареты Потоцкого и Калиновского, и куда, из-за запрета Хмельницкого, казачья артиллерия не била. Оба гетмана нужны были Хмельницкому живыми. «Мне не отступление их нужно, не бегство. Мне нужен полный разгром войска коронного гетмана, — напутствовал он перед боем своих полковников. — Полный разгром, и оба гетмана, раз уж они сами сунулись сюда, у моих ног. Сегодня Польша должна остаться не только без большого войска, но и без обоих гетманов».
— Украина должна знать только одного гетмана, — поддержал его полковник Кривонос. — Всех остальных ждет погибель. И так будет всегда.
Пока войска теснили врага, Хмельницкий пытался осмотреть поле боя. Охватить его взором и понять, что происходит на всех участках схватки в большом урочище, он, естественно, не мог. Но уже сейчас было ясно, что поляки продержатся не более часа. И не сражение это уже будет, а избиение младенцев.
— Реалии следует признавать, граф Потоцкий, — воинственно улыбнулся он про себя, наблюдая, как масса поляков по-змеиному сворачивается кругами, охватывая последний островок посреди урочища, над которым еще развевалась хоругвь коронного гетмана.
— Сколько нас здесь, Савур?
— Полсотни, — прикинул тот, оглядев личную охрану гетмана, оставшуюся на вершине склона.
— Это же целая армия! — вновь выхватил саблю Хмельницкий, хотя понимал, что ему уже нет смысла ввязываться в эту схватку, нет смысла рисковать. Но гетман желал получить эту победу сполна. Не только как полководец, но и как воин. — За мной, воинство Христа и Сечи! Освятим Украину вражьей кровью!
27
Прорываясь к центру сражения, Хмельницкий горячечно искал фигуру коронного гетмана. Он не знал, примет ли стареющий граф бой чести между командующими, как это заведено в рыцарских войнах, но стремился во что бы то ни стало пробиться к его карете, увидеть страх на посеревшем, некогда надменном лице графа и своего давнего ненавистника; зарубить или помиловать его. Но помиловать великодушно, с оскорбительной снисходительностью, чтобы потом с таким же снисходительным презрением уступить его как пленника татарам.
Савур пытался прикрыть гетмана, однако Хмельницкий решительно прошел между крупами коней двух своих телохранителей, срубил занятого рукопашной схваткой польского артиллериста и почти тотчас же остановил мощный удар прусского драгуна.
— Я здесь, гетман! — Схватившись за булаву, Савур вышиб из седла подвернувшегося ему под руку крылатого гусара и, оставив его, полуочумевшего, чигиринцам, с огромным трудом дотянулся до крупа коня какого-то рослого германца, вступившего в схватку с Хмельницким.
Заржав от боли, конь наемника вздыбился, и этого вполне хватило, чтобы Хмельницкий как бы поднырнул германцу под руку и, поняв, что панцирь ему не раскроить, изо всей силы врубился драгуну прямо в лицо.
— Савур, прикрывай меня слева!
— Только не подвернись мне под булаву, гетман! С булавой в руках я зверею!
«Этого мог бы и не говорить», — мысленно улыбнулся Хмельницкий, пользуясь небольшой передышкой, подаренной ему теми казаками, что, заслонив собой командующего, рассеивали сгрудившихся впереди польских обозников. Основная масса обозной челяди, как доложили Хмельницкому, бежала на господских конях, но те, что остались, хватались за оглобли и топоры и сражались упорнее некоторых гусар. Однако необузданную силу, что таилась в могучих плечах и неимоверно громадных кулачищах этого сотника, казалось, невозможно было сломить никаким оружием, никаким драгунским натиском.
Прошло еще несколько минут, прежде чем казаки с Савуром во главе смогли наконец прорубиться сквозь стену драгун, гусар и челядников и достичь кареты коронного гетмана. Сам граф Потоцкий к тому времени прекратил всякое сопротивление. Отдав себя на волю Господа, он оставил седло и, нырнув в кованную железом тяжелую карету, затаился там, богобоязненно ожидая того страшного часа, которого ему уже не миновать.
Впервые он почувствовал себя обреченным в тот день, когда узнал, что под Желтыми Водами погиб его сын Стефан. Эта страшная весть надломила его настолько, что собственная жизнь потеряла для него всякую ценность, а сопротивление смерти — всякий смысл. С того дня он мысленно готовил себя к гибели на поле боя, вполне резонно считая, что для старого полководца, коронного гетмана, это лучший исход. Лучший из того, что может ожидать его на старости лет.
Несколько спешенных германских пехотинцев и челядников все еще пытались преградить казакам путь к своему командующему, но Потоцкий видел, как ударная сотня Хмельницкого, его личная гвардия, состоящая из казаков Чигиринского полка, буквально растерзала последний заслон своими лошадьми, саблями и копьями.
— Потоцкого не трогать! — громыхал над этим яростным побоищем мужественный бас Хмельницкого. — Взять его под охрану! Савур, казаков в круг! Потоцкий — мой личный пленник!
Выхватив кинжал, граф поднес его к горлу, но, увидев, что какой-то казак врубился булавой в приоткрытую дверцу кареты, почему-то опустил оружие. Он слышал приказ Хмельницкого не трогать его. Понял, что с этой минуты он — пленник гетмана, и как человек, давно приговоривший себя к гибели, решил, что спешить, в общем-то, некуда. Если нет смысла жить, то и смерть еще не настолько осмысленна, чтобы бросаться в ее объятия.
«Посмотрим, чем все это кончится», — на удивление спокойно молвил себе граф, откинувшись на спинку сиденья и закрыв глаза. Не столько от страха, сколько от позора, желания уйти от всей той страшной реальности, что захватывала его своей магической круговертью.
— Предлагаю коронному гетману графу Потоцкому принять бой! — услышал он сквозь предмолитвенную дрему голос расхрабрившегося казачьего гетмана. — Рыцарский поединок с выбором оружия!
— Тебе ли предлагать мне рыцарский поединок, подлый раб?! — воскликнул Потоцкий, совершенно не заботясь о том, будет ли услышан командующим повстанцев. — Спроси себя, достоин ли ты того, чтобы сразиться с Потоцким?
— Он отказывается сражаться с тобой, гетман! — прокричал тот же казак, который умудрился разбить и вторую дверцу кареты польского маршала и теперь носился со своей булавой вокруг нее словно вокруг огромного костра, опасаясь ворваться в его пламя и разнося вдрызг одну из самых дорогих и красивых карет Польши. — Прикажи, чтобы я вознес его на острие копья над всем войском как штандарт?!
— Я приказал не трогать! — рявкнул Хмельницкий. — Никому не сметь!
«Ему нужен Потоцкий-пленник, — мрачно ухмыльнулся граф. — Последняя тщеславная утеха восставшего раба».
— Если ты считаешь, что взял меня в плен, — крикнул он Хмельницкому, — то убери от кареты свое быдло и веди себя, как подобает победителю!
— Значит, сражаться ты не желаешь?
— С рабами и обозной прислугой граф Потоцкий не сражается!
Услышав это, Хмельницкий взревел от ярости и, чтобы как-то усмирить свою лють, осатанело повертел головой, будто пытался избавиться от «тернового венка».
28
Дверцы кареты были оторваны, передок с гербом рода Потоцких в нескольких местах прострелен и искорежен осколками ядер, последняя остававшаяся в упряжке пара вороных лежала с развороченными крупами.
— Ведь советовали же тебе, граф, не идти против казаков, — незло подтрунивали над польским маршалом оцепившие карету старые, с прокуренными седыми усами запорожцы. — Сколько раз мы тебя отучивали задираться с низовым кошем. Чего тебя снова потянуло в наши степи?
— Теперь он, конечно, кается и вспоминает свои имения в Умани, в Каменце и где-то там, под Варшавой. Но помиловать мы его не позволим.
— Вы бы перед ним еще на колени встали! — горячился какой-то повстанец, уже успевший надеть прямо на изорванную серую свитку почти новенький панцирь с наплечниками в виде кленовых листьев. — На сук его, ляха! На кол! Попадись мы ему, тотчас же пересадил бы, перевешал.
Все это время коронный гетман сидел, невозмутимо глядя прямо перед собой. Его худощавые, гордо распрямленные плечи едва справлялись с тяжестью панциря, однако Потоцкий старался не сгибать их, а на лице застыло выражение крайнего презрения ко всему, что происходит вокруг, следовательно, и к своей судьбе. Единственное оружие его — легкая парадная сабля — лежало на прикрытых стальными латами коленях как последний символ воинского достоинства, однако никто из запорожцев до сих пор так и не осмелился отобрать ее.
Потоцкому очень повезло, что к карете пробились именно старые запорожцы из личной гвардии Хмельницкого, составившей его Чигиринский полк, а эти прирожденные воины, несмотря на всю свою язвительность, умели ценить храбрость и достоинство врага. Если только успевали заметить то и другое, прежде чем сразу же отправляли его к праотцам или же приговаривали к казни. Они-то и сдерживали гнев вооруженной толпы, сохраняя жизнь командующего до подхода своего казачьего гетмана, который уже был рядом с каретой, но потом вдруг куда-то исчез, отвлеченный более важными делами. Поговаривали, подался на поиски Тугай-бея, чтобы не возникло ссоры при дележе.
— Что, сам Потоцкий попался? — с трудом протиснулся к одной из дверей спешившийся полковник Ганжа. — И даже не раненый? Так, в карете, и отсиделся?
— Да нет, — возразил кто-то из казаков, — пробовал отмахиваться саблей словно фальконетом от блох.
— Пергаментно, коронный, пергаментно. Не сиделось тебе ни в Умани, ни в Варшаве. Даже в Черкассах. Теперь пойдешь в Крым, на дохлую конину и гнильную сырость бахчисарайских крепостных ям.
— Неужели татарам отдадим? — притворно ужаснулся тщедушный, давно лишившийся уха рубака. — У нас что, своей дохлой конины для господина коронного не найдется?
Возвращение Хмельницкого вмиг заставило казаков приумолкнуть и расступиться.
Потоцкий лишь на мгновение взглянул на казачьего предводителя и, так и не погасив саркастической горделивой улыбки, вновь аристократично вскинул подбородок.
— Выйди из кареты, ты, мразь мазовецкая! — вскипел Ганжа, пораженный таким неуважением пленника к командующему победителей. — Не заставляй выволакивать себя!
Он хотел добавить еще что-то, однако Хмельницкий решительным жестом прекратил его словоизлияние, решив, что говорить с коронным гетманом как равный с равным имеет здесь право только он.
— Осмотритесь вокруг, граф, — сурово прохрипел Хмельницкий, чувствуя, что горло ему сжимает свинцовая гать волнения, круто замешенного на ненависти. — Все, что видите, и есть та самая кара Господняя, которую вы — потоцкие, лянцкоронские, вишневецкие, шемберги — сами же и накликали на себя. Вы, еще недавно пытавшиеся сгноить меня в подземелье или казнить, теперь сами стали моими пленниками. В этом-то и есть высшая справедливость.
Николай Потоцкий медленно, слишком медленно для того, чтобы выдать этим движением страх или злость, повернулся лицом к Хмельницкому и теперь уже в открытую улыбнулся своей холеной издевательской ухмылкой.
— Послушай, ты, раб!.. Тебе ли праздновать здесь победу? Поклонись в ноги Тугай-бею. Если бы не его воинственная конница, твоим ничтожествам не одолеть бы нас ни здесь, ни где бы то ни было. Теперь мне стыдно за то, что когда-то я принимал тебя в своем доме, считая, что оказываю честь польскому дворянину. Раб и ничтожество — вот кто ты [45].
Чтобы как-то удержать себя в руках, Хмельницкий стиснул зубы и закрыл глаза. Но рука его легла на эфес сабли почти в то же мгновение, что и рука Потоцкого. Заметив это, Ганжа схватил руку графа, резко вывернул ее, и сабля, черкнув лезвием по стальному наколеннику командующего, упала к его ногам.
— Прежде чем обезоруживать его словами, гетман, сначала обезоружь собственным оружием, — посоветовал опытный казак.
В былые времена Потоцкий действительно не раз принимал его у себя. И Хмельницкий не скрывал, что под любым предлогом пытается показаться в его дворце, отлично понимая, что по-настоящему войти в варшавский, краковский или хотя бы каменецкий свет можно только через бальный зал одного из наидостойнейших польских аристократов. Как помнил Хмельницкий и то, что в свое время в него неожиданно влюбилась еще далеко не увядшая тогда жена графа. Причем сделала это настолько откровенно и неразумно, что дала весьма веский повод для всевозможных сплетен и домыслов.
«И все же, как много связывает тебя почти с каждым из генералов польской армии, — подумалось Хмельницкому. — Несмотря на то, что в их глазах ты действительно предстаешь изменником и ничтожеством. Нет, тебе никогда не смириться с тем, что ты вдруг оказался вне эллинской рати Речи Посполитой. Ибо так устроен этот мир. И так устроен каждый, кто получил в нем хоть какое-то более или менее аристократическое воспитание, признание при королевском дворе».
— Разве я не посылал к тебе гонца? — очень точно уловил его состояние Потоцкий. — Разве не передавал тебе Радзиевский мой приказ: распустить свой сброд и явиться ко мне с повинной? Почему не прислушался к словам, за которыми стоят мудрость и тяжкий опыт?
«Так кто кого победил, — удивился Хмельницкий, слушая польского главнокомандующего, — и кто здесь пленный?!»
— Жить тебе осталось недолго, но до последней минуты жалеть будешь, что не прислушался тогда к моему совету. А теперь на твоей совести Желтые Воды и Корсунь. И мой сын. Тысячи сынов Польши, раб!..
Ганжа почти с ужасом взглянул на Хмельницкого. Не гнева гетмана он опасался, наоборот, поражался его холуйскому терпению. Квадратная фигура полковника буквально округлилась от гнева. Еще немного, и она могла взорваться, подобно вертящемуся у кареты пушечному ядру.
— Что ж, — наконец заговорил Хмельницкий. — Если ты называешь меня рабом… Тогда я сделаю все возможное, чтобы ты обязательно прошел через самое поганое, самое низменное рабство. Чтобы не только ты, но и тебе подобные, прошли через него как через адово чистилище.
Хмельницкий повернулся и отошел к ожидавшим неподалеку Савуру и Урбачу, которые стали теперь почти бессменными его телохранителями.
— Граф потому такой гордый, что он все еще в панцире и в шелках, — бросил кость возмущенной толпе казаков полковник Ганжа. — Так вытряхните же его из всего этого! Пусть он предстанет перед вами таким, каким есть на самом деле — весь из мокрых порток и дерьма!
Швырнул ее, эту кость гнева, и отошел туда же, где остановился Хмельницкий. Не успел он обойти карету, как толпа повстанцев уже сорвала с Потоцкого латы, одежду, перстни и, раздев почти донага, напялила на него чью-то грубую крестьянскую сорочку.
— Этого связать и держать в путах, пока его не заберут с собой ордынцы, — приказал Хмельницкий, презрительно осматривая то, что являл собой теперь некогда гордый коронный гетман. — Всех остальных пленных офицеров приглашаю сегодня вечером к своему столу, который станет для нас всех — побежденных и победителей — столом рыцарской чести. Слава воинству Христа и Сечи!
— Слава гетману Сечи и обоих берегов Днепра! — взревело присмиревшее было казачье воинство пересохшими от жажды глотками.
* * *
Тысячи изрубленных тел. Кровавые отметины ядер на боковинах перевернутых повозок. Бредовые стенания раненых воинов и ржание недобитых, с развороченными крупами лошадей…
Когда умолкают битвы и над полями сражений развеиваются сгустки пороха и ненависти, в награду победителям достаются триумфальное зрелище вселенской агонии, проклятия пленных и хорал воинственных душ, уже покинувших землю, но еще не принятых небесами.
Возле увязшего в болоте орудия Хмельницкий остановился и почти с минуту рассматривал громадного плечистого польского артиллериста, привалившегося плечами к пушечному стволу, словно он присел передохнуть после утренней жатвы. В груди его торчали две стрелы, в брюшине — копье, плечо было прострелено пулей. Копье, очевидно, оказалось последним, что сразило его, но, уже упав замертво, он все еще сжимал в руке саблю, до конца защищая свое орудие.
Оглянувшись на сопровождавших его полковников, Хмельницкий молча снял шапку. Кривонос, Ганжа и Джалалия сделали то же самое.
— Мужественному воину и смерть ниспослана мужественная, — задумчиво произнес гетман, явно жалея, что артиллерист этот оказался их врагом. — Вечная им всем слава — и братьям нашим, и врагам.
— Врагам — погибель, — презрительно процедил полковник Глух, единственный, кто не снизошел до почести поляку-артиллеристу. — И так будет всегда.
Хмельницкий молча взглянул на него из-под нахмуренных бровей. Жестокость и ненависть по отношению к павшим оставались непонятными ему. Иное дело — к живым.
— Подсчитаны пленные, гетман, — появился на склоне оврага, которым проезжал Хмельницкий со свитой, полковник Федор Лютай.
— Говори.
— Двести семь офицеров. Восемьдесят из них — высокородная шляхта, включая Потоцкого и Калиновского. Восемь с половиной тысяч солдат и пятьсот восемьдесят слуг.
— Слуги меня не интересуют. Какие трофеи? Сколько нами добыто пушек?
— Вот с этой, — указал на так и не отбитое у польских бомбардиров орудие, — будет сорок одна. С порохом и ядрами. До ста возов с продовольствием и порохом, возы со всяким офицерским добром. Есть там и…
— Сколько полегло наших? — вновь прервал его Хмельницкий, не желая осквернять осмотр поля сражения перечнями походной офицерской роскоши.
— Семьдесят. Шестнадцать из них — запорожцы. И еще около сотни раненых.
— Вот этим погибшим — вечная слава! — с вызовом воскликнул Глух.
— Найдите среди погибших Галагана и Зарудного, — вновь обратился гетман к Лютаю. — Похороните их отдельно. При всем оружии. Насыпьте высокую казацкую могилу и крест поставьте такой, чтобы на три версты небо подпирал.
— Много их теперь будет, гетман, крестов.
— Эти кресты, полковник, не мы ставим. Их возводит на наших могилах сама судьба. И эти поля сражений, и кресты на могилах наших, и песни, которые будут петь о нас потомки, — все это уже не в нашей воле, но судьбой земли нашей навеяно.
Он поднялся на возвышающийся над урочищем косогор и еще раз, уже с его высоты, осмотрел поле битвы. Лицо его стало надменно-суровым, взгляд презрительно-величественным. Взгляд этот уже не останавливался на телах и орудиях, не замечал ни потерь, ни трофеев. Перед ним простирался долгий, многотрудный кровавый путь освободителя, усеянный полями побед и поражений, добытыми и утерянными в боях знаменами; увековеченный могилами и гетманской булавой.
— Ганжа, возьмешь две сотни и отправишься на Сечь.
— За подкреплением?
— О подкреплении говорить не будешь. Повезешь в дар сечевикам шесть добытых под Корсунем орудий, четыре хоругви и два бунчука, а также поведешь подводы с продовольствием и водкой. Ну, еще прихватишь немного золота. Если после этого еще сотни две-три запорожцев не захотят присоединиться к нам, тогда можем считать, что Сечь вырождается.
— Шесть орудий после каждой победы Хмельницкого! Такого на Сечи забыть не смогут.
— Пусть они станут традицией. А помощь Сечи нам еще понадобится, так что пусть сечевики готовятся.
29
Пир с побежденными, на костях побежденных — и за их счет — вот высшая цель любой победы, какой бы ценой и с какой официальной версией она бы ни добывалась.
Автор
Столы были накрыты на небольшом степном плато, на котором солоноватые ветры, прорывающиеся с Черного моря, встречались с болотными ветрами Полесья, а настоянный на майских травах сухой воздух степи порождал вещие миражи, сливающиеся с речным поднебесным отражением Днепра.
Эти наспех сколоченные из боевых повозок столы располагались рядом с полем боя.
Победители и побежденные сидели за ними, как равные, и многие тысячи убиенных ими уже были не в счет.
Убиенные лежали там, в низине. Еще не преданные земле, но уже преданные на земле. И там был свой, вороний, пир. Все они — поляки и украинцы, казаки, гусары и саксонские пехотинцы, литовские аристократы и белорусские реестровики — тоже были теперь равными на вечном пиру смерти. На том пиру, на котором не произносят тостов, не поднимают бокалов и на котором за все заплачено собственной кровью — уже освобожденной от злобы и ненависти, от дворянской гордыни и мелкопоместной зависти, от воинского азарта потомственных рыцарей и богобоязненного страха крестьян-новобранцев.
— За живых! За воинскую славу рыцарства, на каких бы полях сражений она ни проявлялась, — провозгласил первый тост все еще живой среди живых гетман Хмельницкий, обведя всех сорок наиболее знатных польских офицеров взглядом победителя.
— За славу рыцарства, — мрачно поддержали его несколько поляков, чьи голоса тотчас же потонули в воинственном кличе украинских полковников.
Все плененные аристократы сидят здесь. Во главе с раненным в шею и руку польным гетманом Калиновским. И все они пьют и будут пить за те тосты, которые станет провозглашать он, гетман всея Украины.
Кто там брезгует угощением? Кто решится не поддержать тост? Он, Хмельницкий, пока что пиршествует с побежденными, но ведь он может пиршествовать и на их черепах.
— За лучших воинов войска польского, проявивших в этом сражении священные образцы храбрости и мужества!
— За лучших воинов, что остались там, в урочище Гороховая Дубрава!
Пьют все.
Водки не жалеть.
Все равно она добыта в обозах тех, кого ею угощают. Как и все эти яства, от которых ломятся столы.
Пир с побежденными, на костях побежденных — и за их счет… Вот высшая цель любой победы, какой бы ценой и с какой официальной версией она бы ни добывалась [46].
Кто посмеет узреть в этом несправедливость? Любая несправедливость, освященная мечом, становится высшей справедливостью, поскольку утверждается в качестве таковой этим же мечом.
— За то, чтобы это сражение было последним, — поднялся из-за стола полковник Ганжа. — Пусть поляки чтят своего короля и своих епископов, а казаки — своих гетманов и своих православных святых!
Опустошил розоватый кубок из венецианского стекла, чуть отвернувшись от стола, подбросил его и рассек на лету.
— За последнее сражение!
Для кого последнее? Для победителей, которые отныне могут диктовать свою волю на всей территории от днепровских порогов до Вислы?!
Для побежденных, которые отныне вынуждены будут увести в Польшу все свои гарнизоны, разрушить крепости и замки?
Для крупнейших польских магнатов, чье благополучие веками строилось на окропленной Божьей слезой украинской земле и на окропленных соленым потом кровавых крестьянских мозолях?
— За последнее сражение, после которого кони наши будут напоены из Вислы!
Кто там из пленных поднялся? Кто схватился за пустые ножны?
— За саблю хочешь схватиться, — подступился к гордецу полковник Мрозовицкий [47],сабельная его душа! А что, ему позволено. Лучший из фехтовальщиков, уже признанный первой саблей войска!
И замерло пиршество.
— Вот тебе оружие, — выхватил его из ножен первого подвернувшегося под руку казака.
— Не брезгуй, шляхтич, перед тобой польский аристократ, избравший своим рыцарским орденом казачество.
Короткая яростная схватка. Какой-то замысловатый финт, какой-то немыслимый выпад. И в падении, с разворота, скользящий удар саблей в висок. Еще один удар, уже не мести, а милосердия.
Бокалы подняли все вместе.
Прекрасное фехтование!
Потрясающий удар!
Есть кто-либо на просторах от Дона до Вислы, кто достойно сразился бы с полковником Мрозовицким?
Нет достойных!
За лучшую саблю шляхетной Польши! За польское оружие! За рыцарскую честь, доставшуюся сынам Польши еще от рыцарей Грюнвальда.
— Про Украину забыли, поганцы! — мрачно удивился полковник Ганжа, самоубийственно наполняя водкой пустые ножны сидевшего рядом польского полковника. — Совсем страх потеряли! За чьим столом роскошествуют?!
— Пей. Пей, тебе говорят! — настойчиво подбадривал кто-то из казачьих атаманов польского офицера. — Чье оружие славнее — это мы вам под Варшавой покажем. Причем очень скоро.
Почти никто не обратил внимания, как через заслон личной охраны гетмана прорвался полковник Урбач. Как вздыбил коня, да так, что чуть не выбил копытом кубок из рук Хмельницкого.
— На кол захотел, чернь поганская?! — изумился гетман.
— Весть принес.
— На пиру вестей не принимаю.
— Эту примешь, гетман, — уверенно проговорил Урбач, недоверчиво оглядывая пиршествующих. — Только не хотелось бы при всех.
— Говори. Теперь и здесь — можно.
Начальник гетманской разведки вновь настороженно осмотрел своих и чужих, не доверяя ни тем ни другим. Слишком хорошо знал, как свои становятся чужими, когда есть за что продаться врагу.
Склонившись с седла, вполголоса, почти на ухо гетману, проговорил:
— Умер король Польши. Нет больше короля Владислава.
Хмельницкий отшатнулся от него.
— Кто сообщил?
— Не сомневайся, весть правдивая, — уклончиво ответил Урбач.
— Но ведь тогда все, что мы с ним задумали… — с полупьяной непосредственностью пробормотал гетман. — Вообще вся эта бойня теряет всякий смысл. Что же теперь
— Не здесь, — прервал его полковник. — Что задумано, то задумано.
Хмельницкий поднес ему свой кубок. Рука гетмана предательски дрожала.
— От того, что выпью, он не оживет. Потому что умер уже. В Литве. В каком-то городке, черт бы его, запамятовал. Только что примчался гонец.
— К полякам?
— К тебе.
— Где он?
— В шатре.
— Но почему шепотом?
— Да потому, что не уверен, что все присутствующие здесь должны знать: о смерти короля Польши тебе сообщили уже сегодня, а не через две недели. Может, тебе, гетман, выгодно делать вид, что ничего об этой скорби поляков не ведаешь?
Хмельницкий вырвал кубок из рук Урбача, поднес к губам, но выпить так и не смог.
— Король Владислав умер… [48] — Кажется, только сейчас по-настоящему дошел до него смысл этого страшного, еще не осмысленного, с совершенно необъяснимыми и непредсказуемыми последствиями, известия. — Что же теперь? Значит, Польша осталась без короля? — вопрошал он таким же заговорщицким шепотом, каким только что ему сообщили эту странную новость.
— Даже похоронив его, Речь Посполитая все еще не смогла смириться с этим. Польша без короля, что Иисус без распятия. В Польше короля любят только за муки.
— Всех нас любят лишь до тех пор, пока страдаем и мучаемся. Как только нам открывается лик божественного просветления, страдать начинают все вокруг. От того, что не страдаем мы. И только тогда узнаем, как много врагов вокруг нас. И как мы одиноки среди толпы целующих нас и омывающих нам ноги. Так где он, этот гонец?
— В шатре. С завязанным ртом.
— Ганжа, Кривонос! На этом «поле брани» торжествовать должны не наши сабли, а наши желудки. И проследите, чтобы ни один высокородный шляхтич подняться с него до утра не смог.
— За мудрость гетмана!
— А что будем делать с Потоцким? — спросил все еще не пьянеющий полковник Глух, сидевший напротив Кривоноса.
— Он по-прежнему должен пребывать в полотняной крестьянской сорочке, под крестьянской повозкой, на попоне… — подтвердил свой приговор Хмельницкий. — Его первого отдам татарам, и даже денег не возьму. В подарок хану.
Урбач спешился и пошел вслед за Хмельницким.
— Так, говоришь, в шатре он, с завязанным ртом?
— Только сейчас я понял, почему гонцам, приносившим подобные вести, монгольские мурзы немедленно рубили головы.
— После первых побед пойдут такие вести, что не нарубишься голов наших православных, — успокоил его Хмельницкий.
— Впрочем, этот гонец не от королевы. И не от канцлера.
— То есть это не гонец, которого направили к Потоцкому?
— Он шел к нам. Того, настоящего, коронного гонца, они еще пришлют. Но это будет позже.
— Кем же послан этот? — удивился Хмельницкий.
— Мне он мог бы признаться, но только под пытками. Я не стал добиваться признания такой ценой, зная, что вам он откроется без всякого принуждения.
30
По мере того как карета медленно и тряско, словно бы переваливаясь с булыжника на булыжник, поднималась на Монмартр, кардинал Мазарини все шире открывал дверцу и, наваливаясь плечом на стенку кареты, всматривался в произраставшие из голубовато-фимиамной утренней дымки очертания Парижа.
В последнее время премьер-министр Франции поднимался сюда все чаще, как только предоставлялась возможность и позволяла погода. И всякий раз это вознесение над древней столицей Европы воспринималось им как вознесение над самим собой, над бренностью обыденного и порядком опостылевшего бытия, над всем тем кроваво-мирским и презренно-мерзким, что оставалось где-то там, внизу, в глубинах аристократических кварталов и особняков, в пригородных поселениях торгашей и ремесленников. Всего того, что оседало в пропитанных непокаянными грехами и греховными лжепокаяниями храмах; в чадных, не столько от пламени каминов, сколько от атмосферы великосветского удушья, сумрачных залах и кабинетах; в будуарах и на постоях армейского и политического бомонда.
На выступе, уходящем в сторону Сены, он приказал кучеру остановить карету, ступил на влажную от росы траву и медленно побрел в сторону мельницы. Возведенная над самым обрывом, на верхнем ярусе холма, она, непрестанно обрастая мрачными легендами и поверьями, вот уже в течение двух столетий натужно перемалывала время и судьбы. Ревматический скрип ее отлунием своим напоминал стон, вырывающийся из преисподней, а сами истрепанные ветрами и молниями крылья молитвенно тянулись к поднебесью, как руки всех тех дуэлянтов и самоубийц, которые провидчески облюбовали эти места для своих погибельных катарсисов, оспаривая это право у дуэльного рва, проложенного рядом с бульваром Рошешуар.
Ступив на самый край обрыва, Джулио Мазарини ощутил потребность броситься вниз, поскольку здесь это действо воспринималось с той же озаренной Богом восторженностью, что и вознесение на небеса; отрешиться от всего земного и суетного; забыться, ностальгически предаваясь сицилийским видениям детства. Нет, все же таилось в этом Холме Мучеников [49] нечто, сотворенное из Господней святости и сатанинских проклятий, заставляющее каждого восходящего на него впадать в иллюзорность бытия. Хорезматически отрекаясь при этом от святости запретов и творя во взбудораженной душе своей маниакальные извержения собственного величия, обреченности на славу и бессмертие.
— Ваше высокопреосвященство, — неслышно приблизился к нему офицер охраны, предусмотрительно остававшийся до этого за крутым изгибом склона. — Приближается виконт де Жермен, — указал подзорной трубой в сторону пологого склона, по которому быстро поднимались трое всадников.
— Не бывает ни исповеди такой, ни мессы, которую бы не омрачил своим появлением мой секретарь, — мрачно произнес кардинал и, вместо того чтобы взять протянутую ему гвардейским лейтенантом подзорную трубу, зябко поеживаясь, словно бы вдруг повеяло не майским ветром, а декабрьской стужей, стянул полы утепленной дорожной накидки. Даже теперь, после многих лет пребывания во Франции, парижский климат все еще казался этому сицилийцу слишком холодным, влажным и обреченно малярийным, как для пленного мавра — климат земли викингов.
— Предложить ему подождать до вашего соизволения?
— Это же секретарь, — столь же укоризненно, сколь и обреченно, напомнил ему Мазарини, и офицеру вдруг показалось, что голос кардинала дрогнул. — Они, секретари, для того и сотворены дьяволом, чтобы умудряться отыскивать нас даже в преисподней, а еще — чтобы самые отрадные вести преподносить как россыпи кулонов бубонной чумы — на ладонях Богом и людьми отверженных.
— Как прикажете, ваше высокопреосвященство. Но все же попрошу его дать себе и своей лошадке несколько минут передышки.
Личную дорожную охрану кардинала лейтенант де Кужон возглавлял уже второй год. При этом он оставался одним из немногих офицеров, которым кардинал в это смутное для Франции время поминания Людовика ХIII и восхождения на трон несовершеннолетнего Людовика XIV; агонизирующей Тридцатилетней войны, а также целой лавины странных покушений и не менее странных самоубийств, — все еще доверял.
Позабыв на какое-то время об удалившемся лейтенанте и еще не настигшем его виконте де Жермене, кардинал вновь обратил свой взор на застывший у его ног Париж. Устремленные в небеса шпили многочисленных храмов города напоминали тяжелые пики всадников, а богобоязненно укутывавшиеся дымкой кресты — стыдливо, вверх рукоятями, обращенные к небу мечи крестоносцев. Еще несколько минут горячечного бормотания молитв, несколько томительных мгновений коварной коленопреклоненной покорности — и мечи вновь врежутся в ножны, как стремена — в крупы коней, и под зычные призывы боевых труб и хриплый рев предводителей вся эта несметная, крестоосененная орда ринется то ли в новый крестовый поход, то ли на завоевание очередной крепости протестантов.
Поднимаясь на Монмартр, кардинал почему-то никогда не ощущал ни величия этого города, ни собственной значимости. Один из самых могущественных людей Франции, он умел величественно возноситься над ее аристократической и воинской элитой там, во дворце Тюильри, в королевских покоях, в кабинете первого министра, попадая в которые, начинали трепетать даже сильные мира сего. Но здесь, созерцая почти аристократическую часть Парижа, кардинал чувствовал себя только что спустившимся с гор полководцем, приведшем целую орду гуннов и теперь оцепенело осматривающим величественный город с одного из пригородных холмов.
Он способен захватить Париж, разграбить его, превратить в горы камней и клубы пыли. Но, что бы он ни сотворил сейчас с этим городом, во что бы ни превратил его, он так и уйдет в свои горы и степи, в историю, в вечность необузданным полудиким варваром.
31
В шатре царил полумрак, и Хмельницкий не сразу рассмотрел лицо гонца, сидевшего в дальнем углу в походном раздвижном кресле. Даже с появлением гетмана он не поднялся.
— Перед тобой гетман! — сурово представил Хмельницкого Урбач.
— Вы, господин Хмельницкий? — устало спросил гонец. — Рад видеть.
Он с трудом поднялся, поскольку ноги уже не держали его. Многие версты, проведенные в седле без отдыха, давали о себе знать.
— Прошу прощения, господин генерал, мой третий конь пал в нескольких милях от вашего лагеря. Не говоря уже о том, что мне приходилось избегать и ваших разъездов, и польских.
— Ты все еще не назвал себя.
Гонец снял с головы монашеский капюшон, сорвал украшенный чужими проседями парик и, подступив ближе к Хмельницкому, а значит, и к освещенному солнцем выходу, загадочно улыбнулся [50].
Гетман под руку вывел гонца из шатра, кивком головы приказав Урбачу убрать всех, кто может оказаться поблизости. И не заметил, как Урбач, узнав гонца, радостно улыбнулся.
Сам гетман внимательно присмотрелся к лицу исхудавшего, но все еще сохранившего свою эллинскую красоту молодого монаха, и что-то очень знакомое почудилось ему в этих глазах, в улыбке, в недавно отращенной и пока еще неухоженной бороде.
— Не стану мучить вас, генерал. Перед вами Даниил Грек. Тот самый, из Парижа. С которым ранее вы встречались вместе с полковником Гяуром. Еще во время переговоров с принцем де Конде.
— Господи, — недоверчиво улыбнулся Хмельницкий, — спасибо, что не дал мне опьянеть раньше, чем позволил не узнать такого человека.
— Меня теперь многие не узнают, — еще радостнее улыбнулся Грек. — Однако меня это еще никогда не смущало. Одни знают меня как Даниила Грека, другие — как шведского подданного, православного монаха Илью Грека; французы — как шведского подданного Даниила Калугера; шведы — как офранцуженного полушведа Даниила Оливеберга.
— Почему вы все же переметнулись в лагерь? — не удержался Хмельницкий. — Нет, я знаю, что вы многолики, монах-грек. Мне это известно было еще во Франции. Но ради чего?
— Трудно ответить.
— Трудно раскрывать свои замыслы? Понимаю. Человек без тайны — не человек.
— Как и тайна без человека — не тайна. Знаете, господин генерал, у каждого свое поле битвы. У вас свое, у меня свое. И каждый сражается на нем, исходя из своей собственной стратегии.
— Или тактики, — вежливо поправил его Хмельницкий, похлопав по предплечью. — Пойдем в шатер. Савур, водки и еды в шатер. Только не в этот, в мой.
— Сражаюсь, гетман, — ответил так, как привык отвечать только этот телохранитель.
— Молдавского вина и еды. Как можно больше. Неся мне весть о смерти короля, гость и сам смертельно устал, — добавил он уже исключительно для Даниила Грека.
— Случаются же такие смертельные вести…
— Так кто же тебя послал, монах-стратег? — Они вошли в просторный светлый шатер гетмана, только недавно принадлежавший коронному гетману Потоцкому. Тончайший китайский шелк делал шатер прозрачным и насыщенным солнечным светом. Такие шатры, малопригодные для походной стужи и осенней слякоти, были предназначены специально для дней победы и для победителей.
— Князь Одар-Гяур.
Брови Хмельницкого поползли вверх и застыли у основания слегка подернутых сединой волос.
— Отныне он уже повелевает тобой?
— Не забывайте, что он прибыл сюда из Греции.
— Я-то помнил, что он прибыл сюда, под Каменец, из Валахии. Или Венгрии, уж точно не помню, — улыбнулся Хмельницкий.
— Но послал он меня по просьбе господина Вуйцеховского
— Коронного Карлика?! Он уже добрался до Польши и теперь общается со мной с помощью тайных гонцов?
— Поскольку ему повелел ротмистр Кржижевский.
— Таким образом, вы хотели сообщить мне, что верный поручик королевы граф Кржижевский теперь уже удостоен чина ротмистра, — недовольно проворчал Хмельницкий, давая понять, что его выдержанный в лучших традициях иезуитской дипломатии допрос гонца все еще не завершен.
— Которого надоумила на это графиня д'Оранж.
— Выполнявшая волю своей покровительницы, королевы Марии Гонзаги, — завершил его мучения Хмельницкий.
— Попробовала бы не выполнить. — И оба рассмеялись. Совершенно искренне.
— Но если вы, мой дражайший посол и дипломат, каждый раз будете тянуть мои нервы так, словно собираетесь натягивать их на татарский лук вместо тетивы, — все еще смеясь, предупредил гетман Даниила Грека, — то остаток одной из наших бесед вам придется провести, уже сидя на колу. Или на раскаленном медном барабане.
Даниил Грек рассмеялся этому сообщению как самой большой остроте, которую пришлось выслушать за всю свою полумонашескую жизнь.
— Я совершенно забыл, что вы уже не французский полковник, а главнокомандующий украинской повстанческой армии.
— Если бы я не догадывался о вашей забывчивости, — поддержал его смех Хмельницкий, то приказал бы разогреть один из трофейных котлов уже сейчас.
— К тому же я совершенно не догадывался о том, что отныне являюсь вашим послом и дипломатом, — продолжал хохотать Грек-Оливеберг.
— А шведы догадываются о том, что вы являетесь их послом, дипломатом, а еще точнее — тайным агентом?
Грек так и не заметил, когда Хмельницкий успел согнать улыбку с лица. Зато успел обратить внимание, каким холодным и высокомерным оно стало за эти мгновения. Перед ним вдруг возникло еще по Франции знакомое лицо иезуитского священника, которого, если и не успели возвести в кардинальский сан, то лишь исключительно по неповоротливости высшего совета ордена.
— Я бы мог ответить, что к сообщению, с которым прибыл сюда, шведы никакого отношения не имеют. Но это было бы неправдой. А я не хочу, чтобы мое служение гетману всея Украины, или великому князю Украины-Руси — дело ведь не в наименовании, а в сути — начиналось с маленькой неправды, за которой скрывается коронованная ложь.
— Из Литвы шведским эмиссаром ты был отправлен еще до того, как король испустил дух, но после того, как щедро оплачиваемые шведской короной германские лекари констатировали, что король умер. Причем констатировали задолго до того, как он действительно умер.
— Иначе мы с вами, господин генерал, потеряли бы несколько дней. Это ведь не в наших интересах, правда? Но послан я был все же из Варшавы. По просьбе шведской королевы Христины, не догадывавшейся о том, что с такой же просьбой ко мне обратилась и Мария Гонзага.
— Вернее, ей подсказали, что обратиться следует к вам. Дабы гонец двух королев прибыл ко мне в одном, освященном византийскими святыми, лице.
— Приятно говорить с человеком, который может сказать тебе и о тебе же, куда больше, чем ты сам о себе, — вежливо признал Оливеберг. Но улыбки уже не было. С улыбками в этом шатре было покончено. Очевидно, надолго. Дальше начинались политика и дипломатия оружия, которая всегда становилась оружием дипломатии.
«Король Владислав IV благополучно скончался, царство ему… — попытался гетман оценить нынешнее положение Польши. — Коронный гетман Потоцкий облачен в нищенские одежды и прячется от пригревающего солнца под крестьянской повозкой… Почти весь цвет польской армии то ли полег в прошедших двух битвах, то ли оказался в плену… История, черти б ее побрали!»
— Савур! Лучшего молдавского вина, которое только было обнаружено в польском обозе!
— В обозе поляков вина не было. Только мутная самогонка.
— Тогда откуда же вино? Да еще и в такой расписной амфоре?
— От другого гонца.
— Из Варшавы?
— От молдавского господаря Василия Лупула.
Хмельницкий многозначительно взглянул на Оливеберга. Тот столь же многозначительно развел руками: так разве могло быть иначе? После двух таких сражений, двух таких побед…
— Кажется, у нас теперь будет много вина. Возражаешь, сотник Савур?
— Жаль, что турки обычно появляются без вина. Аллах не велит.
— Уже прибыл посол из Стамбула?
— Потому и говорю.
— Мне редко приходится давать советы гетманам и королям… — молвил Грек, принимая от Савура кубок с искристым красным вином. — Но коль уж представилась такая возможность… Дипломатию нам, — выдержал он паузу, подчеркивая это «нам», — следовало бы вести так, чтобы отныне в вашу ставку вино поступало не только из Молдавии. Иначе мы можем потерять вкус к вину.
— И чтобы мало кто знал, откуда именно поступает это вино в то или иное время, — добавил Урбач.
— Этот человек достоин уважения, — обратил внимание гетмана Даниил Грек.
32
— Что вы затаились там, виконт? — вырвался наконец кардинал из потока своего полуосмысленного, лукаво не мудрствующего варварства.
— Не смею вторгаться в ваши размышления, — кротко молвил секретарь, стоя в трех шагах позади и чуть правее от первого министра. Облачением своим — шляпа, ботфорты и черный плащ — пятидесятилетний виконт почти не отличался от гвардейского офицера, а рука его лежала на рукояти короткого, узкого меча столь воинственно, что, казалось, вот-вот выхватит его, чтобы вещим острием указать своим полкам направление штурма. Виконт терпеть не мог шпаги, а потому на подвязке его всегда висел этот легкий, старинной работы дамасских мастеров, парадный меч, давно ставший родовой реликвией де Жерменов.
— Это уже не размышления, виконт, а величественный бред, вопли отчаяния и покаяния.
— Для этого города, ваше высокопреосвященство, вы сделали столько, что всякий раз, когда вы поднимаетесь на Монмартр, он должен застывать с чувством благодарности и раскаяния за то, что не сумел вовремя распознать и признать вас.
— Требовать чего-либо, в том числе и признания, от Парижа, — мрачно изрек Мазарини, все еще всматриваясь в подернутые дымкой, бивуачно разбитые у подножия холма кварталы города, — все равно, что требовать исповеди от Девы Марии. Что бы она ни изрекала при этом, все будет святой, истинной правдой, которая, однако, ни на дуновение ветерка не приблизит вас ни к истинности ее святости, ни к святости ее истинности.
— Но ведь всем известно, ваше высокопреосвященство…
— Неужели существует что-либо такое, что было бы известно всем? — поспешно переспросил кардинал, не позволяя секретарю завершить свою мысль.
— … Что, еще не взойдя на престол, вы давно покорили не только Париж, но и всю Францию. Об этом говорят не только в Париже, но и в Риме, в Дрездене, во всех городах Священной Римской империи.
Мазарини иронично ухмыльнулся. Он прекрасно знал, что на самом деле думают и говорят о «бешеном сицилийце», «любовнике Анны Австрийской», «безбожном кардинале», «хитром и коварном римлянине» не только в столицах враждебных ему государств, но и в самом Париже. А еще — в Версале, Руане, Марселе, Орлеане, словом, везде, где оплакивают погибших в этой, столь же бессмысленной, как и бесконечной войне, и где облачают в тоги святых и спасителей отечества своих, доморощенных кандидатов на французский трон. Просто там все еще не понимают, что всякий, кто вознамерится покорить Париж, немедленно становится его убийственно бесправным рабом. И что править Францией еще не значит править Парижем, а править Парижем еще не значит покорить его. Точно так же, как из того, что вы — силой ли, хитростью или коварством — покорили Париж, еще не следует, что Париж покорился вам. Правители, умудрявшиеся овладеть Парижем, на холм этот уже, судя по всему, поднимались. Единственный, кто еще не венчал собой этот Холм Мучеников, так это правитель, которому бы Париж и в самом деле покорился.
Взглянув на могущественного кардинала, а затем — на не менее могущественный Париж, виконт де Жермен мечтательно опустил занавес ресниц. Нет, он решительно не понимал Джулио Мазарини. Оказавшись на его месте, он, виконт де Жермен, наверное, сошел бы с ума от ощущения успеха и власти. Все дело в том, что такие правители, такие некоронованные короли, как кардинал Мазарини, слишком много философствуют по поводу власти и своего могущества, вместо того, чтобы, сотворив то и другое, до конца дней своих проникаться величием сотворенного. Ибо, если уж всемогущественный кардинал Мазарини чувствует себя рабом Парижа, то кто же тогда чувствует себя его повелителем? Кто, черт возьми?! Не Анна же Австрийская, которую власть, данная ей как королеве-матери, регентше при младовозрастном Людовике XIV, не столько вдохновляет, сколько вводит в смятение. И не будь рядом ее первого министра и фаворита Мазарини… Да еще молодого принца Людовика де Конде…
— Что именно время от времени приводит на Монмартр кардинала Мазарини — действительно известно всему Парижу, всей Франции, вообще всем кроме разве что самого Мазарини да Господа Бога. А вот что привело сюда нынче вас, господин секретарь первого министра?
Де Жермен уже привык к тому, что его сугубо служебные диалоги с кардиналом очень часто превращались в своеобразные философские турниры, во время которых виконт не смел, а кардинал великодушно не стремился выходить победителем. Зато отшлифованная в них иносказательность нередко позволяла им и при свидетелях объясняться так, чтобы свидетелей их объяснений, по существу, не оставалось.
— Вчера вечером я не смел потревожить вас…
— Оказывается, и вы тоже иногда являете миру проблески благоразумия, — проворчал кардинал, как всегда, воспользовавшись медлительностью речи своего секретаря-виконта. В общем-то, он никогда не был в восторге от неспешности, а порой и явной нерасторопности де Жермена. Однако нет-нет да и проявлялось в его делах и помыслах нечто такое, что позволяло кардиналу не слишком торопиться с заменой своего секретаря.
— Как раз вчера, в ваше отсутствие… — виконт мог бы и не выдерживать этой, слишком уж красноречивой паузы, давая понять, что он знает, что именно скрывается за этим «в ваше отсутствие…». Как прекрасно знает об этом и Анна Австрийская, в будуаре которой кардинал провел все свое «отсутствие», — появился посыльный от папского нунция монсеньора Барберини.
— И чего же добивается этот ваш нунций на сей раз? — саркастически осклабился Мазарини.
Обладая саном кардинала и прекрасно зная всю подноготную дипломатии «святейшего престола», он обычно ни к одному послу, ни к одному советнику посла не относился со столь неприкрытой великосветской иронией, как к нунцию папы римского. Тем более что этому способствовала и сама личность «нунция» — словцо это в устах кардинала всякий раз приобретало какой-то особый кулуарный привкус.
— Как всегда, он жаждет аудиенции.
— Не поражайте меня изысканностью своего доклада, — почти побагровел Мазарини, только теперь, собственно, переводя взгляд на виконта де Жермена. До сих пор он предпочитал наслаждаться видами того, что представало перед ним на пространстве между Монмартром, Сеной и Нотр-Дам де Пари.
— Насколько я понял, нунций решил вручить вам послание папы, которого мы так добивались. С требованием, с настоятельной рекомендацией, — тотчас же исправил свою оплошность, уже вторую за время доклада, де Жермен, — прекратить эту, уже тридцать лет длящуюся, войну.
— Прекратить войну, длящуюся тридцать лет! — буднично как-то покачал головой Мазарини. — Неужели найдется человек, который бы однажды решился на это?
Услышав его слова, виконт внутренне вздрогнул. Он был поражен. Еще два месяца назад Мазарини сам усиленно намекал Ватикану на то, что ему давно пора бы обратиться к Франции с настоятельной просьбой прекратить эту бесконечную войну. Ведь только обращение папы позволило бы первому министру правительства выйти из этой, не им затеянной, войны, сохранив при этом, если уж не позу победителя, то хотя бы по крайней мере благочестивое выражение лица: как-никак он спасает Европу от чудовищного кровопролития, которое не он затеял, но из-за которого сотни раз народом был проклят.
Мало того, у нунция уже даже существовал текст послания, которое он так и не вручил Мазарини. Узнав о тоне послания, первый министр решил, что оно слишком мягкое и ни к чему не обязывающее. А он хотел преподнести буллу папы своему генералитету, аристократии, торговцам и всем прочим, кто был крайне заинтересован в продолжении войны, как документ, принуждающий его подчиниться воле святейшего престола.
«И вот теперь, — размышлял секретарь первого министра, — нунций, по всей вероятности, появился именно с таким посланием, на которое кардинал Мазарини буквально спровоцировал его. Так чего же еще добивается теперь кардинал?»
— Считаете, что такой человек не найдется? Что правители Священной Римской империи не согласятся завершить эту войну, не ощущая вкуса победы? — как можно деликатнее поинтересовался секретарь.
— Они-то как раз возликуют. Еще бы: такая возможность не потерять победу, не потерпев при этом поражения! Так что дело не в них…
Очередного вопроса не последовало. Разговор зашел в тупик.
Пока, задумчиво глядя себе под ноги, Мазарини возвращался к карете, секретарь старался следовать рядом с ним. При этом он пытался разгадать истинное настроение первого министра; понять, насколько он искренен в своем дипломатическом непонимании столь ретивого вмешательства папы в дела правителей государств, которые давно привыкли к затеянной ими войне и, по существу, сжились с ней.
— В конце концов папа уже не раз обращался с посланиями, в которых просил сильных мира сего прекратить ту или иную войну… — попытался он подсказывать патрону путь к толкованию происшествия, уже открывая ему дверцу кареты.
— Прекращать войны, виконт, еще большее безумие, нежели развязывать их, — вот что труднее всего будет понять свыкшейся, кровно сроднившейся с нынешней войной Европе.
33
А само вино оказалось отменным. Независимо от того, поступило ли оно от молдавского господаря или от семиградского князя. Некоторое время Хмельницкий, а также Даниил Оливеберг и как-то незаметно присоединившийся к ним Урбач, смаковали этот божественный напиток, вспоминая Париж, Дюнкерк, приемы у принца де Конде и строгости королевы-регентши Анны Австрийской.
Те, что пировали сейчас за столами, неподалеку от побоища, как бы пребывали в ином мире, не имеющем никакого отношения к миру воспоминаний этих троих. Франция. Париж. Дюнкерк… Анна Австрийская.
— Надо понимать так, — обратился гетман к дипломату Даниилу, — что шведская королева Христина заинтересована, чтобы Польша как можно скорее осталась без короля и как можно дольше оставалась без него. И ваше появление здесь следует считать началом дипломатических отношений Украины со Швецией?
— Разумеется, до официального их установления. Поскольку вы все еще являетесь не гетманом Украины, а всего лишь гетманом войска. Как и страна ваша, Украина, пока еще является не полноценным, независимым государством, а всего лишь одним из бриллиантов в короне Речи Посполитой.
— Надо признать…
— Факты всегда нужно уметь признавать.
— И чего же в таком случае добивается королева Христина?
— Швеция не желает, чтобы Украина входила в состав Польши и тем самым обеспечивала ее мощь.
Хмельницкий застыл с кубком в руке. Взгляд его точно так же застыл на лице Оливеберга.
— Швеция понимает, что, оставшись без Украины, польская держава в тот же год потеряет и Литву. Никто не станет считать Польшу великой с того дня, когда она перестанет быть империей. А империей она перестанет быть сразу же, как только потеряет Украину.
— Все это элементарно, как подбор колод в карте, — как бы про себя заметил Урбач, удивляясь, что Хмельницкий молча реагирует на его рассуждения.
— То есть вы, как посол шведской короны, гарантируете, что, когда возникнет такая необходимость, Швеция придет нам на помощь?
— Которая не обязательно должна выразиться в том, что шведские войска станут занимать линию обороны между вашими полками и чамбулами татарской конницы. Король может двинуть свои войска прямо на Варшаву. Что значительно сократит их путь туда, куда, собственно, и метит Швеция. Ибо собственно Украина, как земля, никакого особого государственного интереса для Швеции не представляет.
— Меня это должно успокаивать, — согласился Хмельницкий, понимая, что таким образом посол хотел объявить, что оккупировать украинские земли правители норманнов не собираются. — Вам приказано оставаться постоянным представителем Швеции при моей ставке?
— Скорее оставаться связным между вашей ставкой, господин генерал, и тайным шведским эмиссаром в Литве, а значит, и шведским королевским двором.
Хмельницкий с недоверием осмотрел Оливеберга: осознает ли этот полумонах, на какие неудобства и опасности он себя обрекает? Вряд ли.
— И вы намерены остаться этим связным?
— Но не потому, что влюблен в королеву Христину — вы уж извините — и готов жертвовать ради нее жизнью.
— Постарайтесь обходиться без намеков, — едва заметно улыбнулся Хмельницкий, давая понять, что его замечание — шутка. — Мне хорошо известно, что королева Христина считает вас своим фаворитом, поскольку вы заставили ее влюбиться в себя.
Оливеберг рассмеялся и загадочно помолчал.
— Неужели слухи об этом дошли до Дикого поля?
— Пока что они не проникли дальше Елисейских полей. Но иногда этого оказывается достаточно, чтобы в любом уголке Европы о той или иной вести немедленно узнали все, кому положено знать.
— За наших королев! — поднял свой кубок Оливеберг. — Независимо от того, достигли они своих корон или пока еще нет.
Хмельницкий задумчиво кивнул. Ему вспомнилось лицо княгини Бартлинской — огромные вишневые глаза под сиреневой вуалью… Это справедливо: за королев! Независимо от того, достигли они своих корон и королевств или еще только находятся на пути к своим тронам.
— Значит, Швеции вы служите вовсе не потому, что влюблены в королеву Христину? Чувств Ее Величества мы касаться не будем, дабы не осквернять их своими огрубевшими словами. Но что же в таком случае заставляет вас служить этой далекой от Греции стране? Какая иная королева?
— Я хочу служить вам, господин командующий.
Появился Савур и доложил, что перехвачен гонец от польского князя Иеремии Вишневецкого, который несколько запоздал к обедне. А если серьезно, он пытался дойти до шатра коронного гетмана Потоцкого, чтобы сообщить, что князь Вишневецкий уже собирает свое собственное войско и вскоре прибудет на помощь. Если только Потоцкий пожелает этого.
— То есть и Вишневецкий со своим войском тоже собирается к нам в гости? — спокойно переспросил Хмельницкий. — Сколько же их еще будет — этих потоцких, оссолинских, вишневецких, калиновских Хотя этот мог бы присоединиться и ко мне. Все же он из православных, украинского корня. Передай гонцу, что Потоцкий по-прежнему ждет его.
— Только сначала покажи ему, где именно и в каком виде ждет, — уточнил Урбач.
— Реалии следует признавать.
— А потом что, отпустим? — спросил Савур, не любивший каких бы то ни было неясностей.
— Снабдив моим письмом, в котором я прошу беспрепятственно пропускать этого гонца, пока он не достигнет владений князя Вишневецкого.
Савур осмотрел присутствующих, по выражениям их лиц пытаясь утвердиться в мысли, что гетман не шутит.
— Понятно, — расшифровал он замыслы вождя восставших, — пусть о наших победах польские магнаты узнают от собственных гонцов. Тогда не усомнятся.
Сотник вышел, и Хмельницкий вновь обратил свой взор на иного, более важного для него гонца.
— Итак, я хотел бы служить вам, господин командующий, служить Украине, — возобновил прерванный разговор Даниил Оливеберг, он же Грек. — В той же ипостаси, в которой прибыл сюда. Для меня важно, чтобы вы считали меня своим дипломатом. Первым дипломатом освобожденной Украины.
— Значит, теперь вы по-настоящему понимаете, чего я от вас добивался?
— И, по-моему, начали делать это еще во время нашей первой встречи в Париже.
— Не имея ни государства, ни армии, ни надежды.
— Реалии следует признавать.
— То есть вы согласны быть не только шведским послом, но и украинским? — настойчиво поинтересовался Хмельницкий. — Причем сразу же предупреждаю, что утвердительно отвечая на этот вопрос, вы в то же время имеете право выдвигать свои собственные условия.
— Они не будут выходить за пределы тех сумм в золоте, которые необходимы, чтобы поддерживать мой дух в трудном пути между Чигирином и Литвой да вовремя менять загнанных коней.
— Но ведь не славянская же кровь говорит вашими устами? — осторожно поинтересовался Хмельницкий.
— Скорее моими славянскими устами говорит сейчас греческая кровь. Не кажется ли вам, что судьба некогда могучей Греции, которая, словно прародительница, дала жизнь всей европейской цивилизации, в наши дни так же беспросветна, как и судьба Украины? Даже если освобождение Украины — православной, проникнутой греческой верой — и не поможет освобождению Греции, то мужественная борьба ее, несомненно, послужит для нас, греков… ярчайшим примером.
— Что ж, — согласился Хмельницкий, тяжело вздохнув, — ради такого примера иногда стоит служить трем иностранным правителям сразу.
— Реалии следует признавать, господин командующий, — усмехнулся Оливеберг.
* * *
Ранним утром, едва приведя себя в порядок, Хмельницкий тут же потребовал посла Оливеберга к себе.
— Ночью у меня было время поразмыслить над вашим предложением, господин шведский посланник, — суховато, официально молвил он, выходя вместе с греком из шатра.
— Мне жаль, что испортил вам такую прекрасную ночь.
— А думать было над чем, — мрачно продолжал Хмельницкий, не реагируя на шутливое замечание посла. — Со смертью Владислава IV совершенно меняется ситуация в Польше, а следовательно, и характер нашей войны.
— Я это предполагал. Поскольку владел некоторой информацией о ваших особых, тайных взаимоотношениях с ныне покойным королем…
Хмельницкий настороженно взглянул на посланника.
— Но ведь он уже там, — обратил свой взор к небу Грек. — И потом, мы ведь решили, что станем доверять друг другу…
— Именно этого — подтверждения нашей договоренности — я и ждал, а посему хочу уточнить: вы по-прежнему настаиваете на том, что готовы служить дипломатом украинского казачества?
— Ваши высказывания, гетман, становятся все более изысканными, то есть дипломатическими. Но тогда возникает закономерный вопрос: кто здесь настоящий дипломат? И вообще стоит ли так усложнять наше общение? Словом, будьте проще, господин Хмельницкий. Какое задание я должен выполнить? Приказывайте.
— Прежде всего мне бы хотелось, чтобы вы отправились во Францию.
Поручение оказалось настолько неожиданным, что на несколько мгновений Оливеберг буквально замер.
— И когда, по-вашему, я должен тронуться в путь?
— Сегодня же, немедленно. Причем сам вояж из Польши во Францию следует сделать без излишней огласки. Кажется, вы прибыли в Польшу под охраной мушкетеров, с обозом?
— Возможно, мне удастся перехватить этот французский обоз в районе Кракова. Если говорить честно, я предполагал, что вы попытаетесь использовать мои парижские возможности, чтобы заручиться поддержкой Франции, и попросил графа немного подзадержаться в Кракове.
— Анна Австрийская окажется в сложном положении. Новый король, а следовательно, и Мария Гонзага, тоже могут обратиться к ней за помощью. И выбор будет трудным: король дружественной Польши против командующего армией восставшей колонии.
— Короли всегда опасались поддерживать каких-либо повстанцев. Ведь в их собственных странах тоже есть, кому восставать.
— Теперь уже вы не уходите от прямого и ясного изложения мыслей. Вы согласны выполнить мое поручение?
— Письмо готово?
— Через час.
— В таком случае за вами — деньги, припасы, охрана и любая из трофейных карет. Поляки будут уверены, что я еду из лагеря Потоцкого, в котором побывал еще до вашей победы.
34
Оказавшись в приемной первого министра, папский нунций Маффео Барберини осмотрел ее с такой кротостью, с какой одичавший на высокогорных альпийских пастбищах пастух способен осматривать собор Парижской Богоматери. По количеству картин, статуэток и прочих дорогих безделушек, приемная эта не уступала многим изысканным салонам. Единственное, чего здесь не было, так это иконы или хотя бы какого-нибудь полотна, сюжет которого, пусть даже отдаленно, напоминал бы библейский. И это в приемной кардинала, который в свое время тоже являлся папским послом во Франции!
Так и не решившись облечь свои святопрестольные сомнения в грешные слова, Барберини тем не менее недовольно покряхтел и, усевшись в слишком низкое, не позволявшее сохранять приличествующую его общественному положению осанку кресло, полузакрыл глаза. Он закрывал их при первой же возможности, независимо от того, приходилось ли говорить самому или же выслушивать кого-то; смиренно, терпеливо поучать или столь же смиренно, богобоязненно усмирять собственную гордыню. Всякий, кто наблюдал его при этом, почти физически ощущал душевную отрешенность этого человека от бренного мира, в котором все еще — по совершенно непонятным и неприемлемым для него причинам — вынуждено было оставаться его немощное, пожелтевшее тело.
— Ваше высокопреосвященство, кардинал готов будет принять вас, как только выслушает пребывающих у него генералов, — заверил посла секретарь премьера.
— Не сомневаюсь, что примет, — кротко молвил папский нунций, но после небольшой паузы добавил: — И даже выслушает. — А когда виконт уже окончательно решил, что тот завершил фразу, уточнил: — Как только ему посчастливится мирно распрощаться со своими генералами.
— Война, ваше преосвященство, это время, когда политикам приходится терпеливо выслушивать своих генералов, коль в свое время не сумели заставить генералов столь же терпеливо выслушивать их самих.
— Хранитель святого престола папа Иннокентий Х просит Господа, чтобы он привел все христианские страны к миру.
— Кажется, об этом же правители христианских стран готовы просить и самого папу, поскольку есть большая уверенность, что в отличие от Господа папа действительно услышит и, может быть, даже соизволит наконец вмешаться. А ведь и в самом деле пора бы уже за тридцать-то лет…
Нунций на мгновение открыл глаза, взглянул на секретаря кардинала как бы из зазеркалья вселенской власти, и по лицу его пробежало нечто похожее на улыбку слишком запоздало ожившего покойника. С кардиналом Мазарини он был знаком еще в бытность того нунцием папы во Франции. И уже тогда за любвеобильным, кощунственно прагматичным «сицилийцем» закрепилось мнение как о человеке, хоть и верующим, но откровенно безбожном. Такого же он подобрал себе и секретаря. Если истинный священник рассматривает свой высокий сан священнослужителя как надежду на то, что молитвы его будут услышаны, то для кардинала Мазарини это возможность не только не молиться самому, но и заставить всех прочих грешных молиться не Господу, а… ему!
— Помню, что во время своего прошлого визита к господину первому министру вы, господин посол, уже готовы были вручить ему послание папы.
— Если бы это в самом деле произошло, возможно, сегодня кардинал тоже выслушивал бы своих генералов, но только уже вряд ли сами генералы согласны были бы выслушивать мнение самого кардинала. Поскольку у них давно сложилось бы свое собственное.
— Неужели предложения папы оказались бы настолько недальновидными? — не мог упустить случая виконт де Жермен.
— Наоборот, они были бы настолько совершенны в своем видении истинной ситуации во Франции и во всей воюющей Европе.
Удивленно хмыкнув, секретарь метнул взгляд на дверь кабинета первого министра, поднялся из-за стола, подошел к нунцию и, скрестив руки на груди, несколько секунд покачивался на носках, ожидая, что тот разъяснит ему, непонятливому, смысл только что сказанных слов. Чем же теперь он собирается удивлять самого премьера Франции, если предыдущее послание выглядело столь благочестиво совершенным и совершенно благочестивым? Однако Барберини вновь закрыл глаза и погрузился в свое привычное «полунесуществование». Ему это удавалось похлеще, нежели египетским жрецам.
— Но сейчас в вашей папке лежит текст совершенно нового послания… Я ведь верно вас понял? — предпринял виконт еще одну, последнюю, отчаянную попытку. Слишком уж хотелось войти к кардиналу всезнающим пророком.
— Почему вы так решили, виконт? — спросил Барберини, сомнамбулическим голосом ангела-хранителя.
— Потому что времени, отделяющего ваш нынешний визит от предыдущего, вполне хватило, чтобы отправить гонца в Ватикан и дождаться его возвращения с новой буллой, текст которой, как водится, подготовлен был вами еще здесь, в Париже.
Только теперь Барберини решился окончательно открыть глаза на поднадоевший ему мир и, взявшись руками за подлокотники кресла, даже слегка приподнялся, словно намеревался немедленно покинуть приемную первого министра.
— На вашем месте, виконт де Жермен, я, конечно, размышлял бы точно таким же образом. Но в отличие от вас никогда, ни при каких обстоятельствах не решился бы объявлять плоды своих размышлений, — желчно поиграл исхудавшими желваками опытный церковный дипломат. — «И пусть это станет тебе уроком», — теперь уже мысленно изощрялся он, пытаясь уловить на лице виконта хоть какие-то признаки смятения.
Не по чину смышленый, колким остроумием своим напоминающий своего патрона, — канцелярист уже начинал раздражать Барберини. Он привык к тому, чтобы каждый в этом мире знал свое место. «Возможно, чин и не всегда соответствует достоинству человека, — размышлял он. — Зато человек всегда обязан соответствовать чину. В противном случае человеческое сообщество потеряет не только Божье право на свое существование, но и Божий смысл его».
— Вашу мудрость я счел бы беспредельной, — вежливо склонил голову виконт, — если бы не одно обстоятельство. Какова ценность плодов, коих ты не способен вкусить?
— Плодами должен наслаждаться тот, кто взращивает их, досточтимый виконт де Жермен, — парировал нунций, оставляя свое лицо все таким же беспристрастным, каким оно было, по всей вероятности, со дня рождения.
Генералы и впрямь долго у первого министра не задержались. Оба подтянутые, худощавые, они покинули его кабинет с багровыми от досады лицами, преисполненные гнева и неистребимой самоуверенности.
«А ведь такой гнев генералов могло вызвать только стремление первого министра как можно скорее покончить с войной, — подумалось Барберини. — Уже убедившись в том, что десятилетиями тянущейся войны не выиграть, они тем не менее не намерены складывать оружие. Оно и понятно: война — это их, Господом завещанное время».
— Теперь-то Мазарини готов принять меня? — поинтересовался нунций у секретаря, когда тот вышел из кабинета. И был удивлен, услышав:
— Вот теперь как раз не готов. Первому министру нужно несколько минут, чтобы осмыслить предложения, высказанные генералами.
35
Когда Барберини в конце концов вошел в кабинет кардинала, тот сидел у едва освещенного пламенем камина и при свечах читал какую-то книгу. Нунция, привыкшего к тому, что поведение всякого человека, с которым ему приходится иметь дело, способно сказать значительно больше, нежели его слова, это слегка озадачило. В то же время теперь он понимал, почему секретарь впустил его с некоторым запозданием. Даже заметив, что нунций уже вошел в кабинет, кардинал все еще позволил себе прочесть несколько строк, и лишь после этого повернул кресло к массивному, затянутому красным сукном столу. Положив книгу справа от себя, чтобы оставалась под рукой, он пригласил нунция присесть к приставному столику.
— Библия, досточтимый нунций, Библия, — объяснил он, заметив, как прежде чем опуститься в отведенное кресло Барберини до предела вытянул свою «свежеощипанную гусиную» шею, пытаясь понять, что же так увлекло кардинала в промежутке между аудиенциями, данными генералам и нунцию.
— А ведь кое-кто уверен, что, заняв пост премьера, вы совершенно отреклись от святочтения, — озабоченно проворчал посол и, словно бы не поверив кардиналу, все же позволил себе перегнуться через стол и взглянуть на обложку фолианта. Это была обычная церковная Библия, изданная весьма скромно и совершенно непохожая на те роскошные издания, которые печатались теперь не только в Ватикане и в монастырях, но и в некоторых гражданских типографиях.
— После каждой беседы со своими генералами я вынужден прочитывать хоть полстранички Святого писания, дабы отрешиться от того, что гонит их ко мне, заставляя требовать все новых и новых солдат, пушек, зарядов, и все больше провианта. И так без конца: солдат, пушек, зарядов, провианта; солдат, пушек… Причем самое страшное, что всем этим действительно приходится их снабжать, да к тому же делать это все более охотно, — потянулся он через стол к нунцию, воинственно упираясь руками о стол. — Да-да, не удивляйтесь, нунций Барберини, все более охотно.
— Мне это понятно, ваше высокопреосвященство — каково чувствовать себя первым министром, когда требовать начинают генералы… Как понятно и то, почему вы вновь и вновь вынуждены продлевать эту войну.
Чрезмерно смиренный вид Барберини всегда приводил первого министра в уныние. Но сегодня папский нунций выглядел как-то слишком уж загробно. Лицо его казалось маской, сотворенной из скелета и старинного полуистлевшего пергамента; а руки, которыми он судорожно, как старый орел — добычу, держал кожаную папочку с двумя золотыми застежками, все еще дрожали, но уже напоминали полуистлевшие конечности некстати ожившей мумии.
Именно на этой папочке Мазарини и задержал свой взгляд. Кардинал помнил ее со времен прошлых посещений нунция, и порой ему в самом деле казалось, что всевозможные послания и благословения, которыми она постоянно была напичкана, создавались не в папской канцелярии в Ватикане и даже не в резиденции папского нунция в Париже, а прямо в ней. Под буйволиной шкурой этой объемистой папки всякий угодный текст на пергаментах и бумагах проявлялся по воле самого нунция, как кровавые очертания — на голгофной плащанице.
— Если бы ваши речи могли слышать французские генералы, они наверняка возразили бы вам, — хрипло молвил Мазарини, с трудом отведя взгляд от ветхозаветного хранилища папских посланий-булл.
— И что же они сказали бы, окажись свидетелями нашего разговора?
Мазарини поднялся, подошел к камину и долго смотрел в угасающее пламя. Ему вдруг вспомнился недавний визит посла в Польше генерала графа де Брежи. Обменявшись всего несколькими фразами, они тогда битых полчаса сидели, задумчиво глядя на огонь и не ощущая при этом никакой потребности в общении. Это было молчание единомышленников. Никогда и ни с кем кардиналу не молчалось столь красноречиво и столь благодушно, как с этим генералом-послом. И когда, в завершение встречи, де Брежи все же вынужден был согласовать с первым министром несколько вопросов, Мазарини с сожалением признал, что таким образом тот испортил весь шарм их встречи.
— То, что вы услышите в следующую минуту, должно оставаться сугубо между нами, досточтимый нунций, — молвил наконец Мазарини, все еще не отрывая взгляда от огня.
— То есть хотите сказать, что желаете воспользоваться правом исповеди? — подсказал ему Барберини наиболее приемлемый способ самооправдания.
— Исповеди? — коротко рассмеялся кардинал. — А что, и в самом деле. Тем более что, говоря откровенно, за всю свою жизнь я так ни разу не исповедался.
Джулио-Раймондо оглянулся, желая видеть, какое впечатление это произведет на нунция. И убедился, что, решительно покачав головой, тот дает понять: «Не верю этому!».
— Нет конечно же… перед принятием сана, я, как и полагается… Но, видит Бог, ничего общего с исповедью это не имело.
— То, что только что сказано вами, тоже можно считать исповедью, — поспешил заверить его Барберини, ожидая услышать нечто более интересующее его, нежели сие скудное признание грешника кардинала.
— Естественно, причислять к исповеди можно все, что угодно, — согласился Мазарини, поворачиваясь лицом к камину и вновь надолго умолкая.
Граф де Брежи утверждал, что только бездумное созерцание полуугасшего камина позволяет ему заглушить тоску по родине. Так, может быть, и его самого, сицилийца Мазарини, зево камина привлекает именно этим свойством: утолять тоску по родине, подавляя и развеивая убийственную ностальгию.
— То есть вы не согласны с моим предположением?
— К сожалению, я принадлежу к той категории людей, искренне исповедаться которые могут, только стоя с петлей на шее. Да и то вряд ли мне удалось бы преодолеть сомнения. А что касается генералов, то они поведали бы вам, что это не премьер-министр Франции вынужден продлевать войну под их нажимом, а скорее, наоборот — они бросают все новые и новые полки, как вязки хвороста в огонь, под нажимом премьер-министра.
Барберини хотелось выразить свое крайнее удивление, а возможно, и возмущение — пусть даже слегка припудренное дипломатичностью, но в отчаянной поспешности он захлебнулся словами и чувствами.
— Вы? — едва пробился его голос сквозь спазм гортани. — Это вы настаиваете на продолжении войны? Даже вопреки воле своих генералов?! Но ведь и здесь, в Париже, как и в Мадриде, Риме, в самом Ватикане, считают, что вы, кардинал, крайне возмущены этой войной и, прибегая ко всем возможным мерам, пытаетесь погасить ее. Сам папа считает вас величайшим миротворцем Европы.
— Как же я выглядел бы в обличье политика, если бы не сумел убедить хранителя святейшего престола и половину Европы в своем ангельском миролюбии? — хитровато сощурился Мазарини. И нунций вдруг увидел перед собой загорелое, обветренное, загрубевшее от пыли и морщин лицо сицилийского крестьянина, только что неправедно сбывшего какому-то заезжему перекупщику свой залежалый товар. — Но ведь дело в том, что любой из моих генералов теряет свои награды и солдат. В худшем случае проигрывает сражение. А первый министр, если уж проигрывает, то всю войну, всю свою политическую карьеру, а возможно, и половину королевства. К тому же это мне, а не моим бездарным генералам, придется управлять страной, которая, скажем так, не выиграла войну, потеряв при этом на полях сражений десятки тысяч крестьян, виноделов, плотников и прочего мастерового люда.
— Но во время прошлой аудиенции вы настаивали на том, чтобы появилось послание папы…
— Я и сейчас настаиваю на этом, — не меняя ни тона, ни выражения лица, подтвердил Мазарини. — Кстати, где оно?
36
Дрожащими руками Барберини расстегнул золотые застежки и извлек из папочки портфеля тонкий свиток. Взорвав сургучные печати, Мазарини лихорадочно развернул его.
Опуская первые фразы, в которых папа, как обычно, с занудным угодничеством восхвалял Всевышнего, кардинал пробежал взглядом по той части, в которой хранитель святейшего престола призывал младовозрастного короля Людовика XIV, королеву-регентшу и правительство, вняв молитвам миллионов христиан и воле Господа, как можно скорее начать переговоры с Испанией и ее союзниками об окончании этой войны, охватившей весь христианский мир.
— Признаю, — молвил Мазарини, — это — одна из немногих молитв Непогрешимого, которые будут услышаны не только на небесах, но и в королевских апартаментах Парижа.
— Хотелось бы, чтобы вы обратили внимание на особые условия папы, при которых…
— … Ни в одной из ныне воюющих стран не пострадали интересы католической церкви, — вежливо склонил голову Мазарини, — и ни на монетку не уменьшился «грош святого Петра» [51].
— Вы процитировали написанное в послании почти дословно.
— Хотя и не дочитал до этих строчек. Передайте папе, что святому престолу опасаться нечего. Чем разрушительнее войны, ослабляющие наши страны, тем могущественнее и увереннее становится власть Ватикана в этих странах. Так было и так будет. — И, не позволяя кардиналу Камелло Барберини собраться с мыслями для возражений, тотчас же добавил: — Но ведь мы оба знаем, что во всякой булле содержится лишь часть той святости, которую папа собирается донести до поверженных душ стада Христового. А потому говорите, что вам велено было передать на словах.
Нунций столь же поспешно извлек из папки еще один сверток и положил его перед Мазарини.
— Это не для оглашения. После моего ухода у вас появится возможность более внимательно ознакомиться с пожеланиями папы.
— Точнее, с пожеланиями его канцелярии.
— Но благословленными папой.
Мазарини помнил, что Камелло Барберини начинал свою карьеру как непот [52] усопшего четыре года назад папы Урбана VIII. Однако и с восхождением на святой престол Иннокентия Х, в миру — Джамбатисто Памфили, кардинал Барберини все еще чувствовал себя уверенно. Уже хотя бы потому, что нынешний папа не забывал, что и своей личной карьерой он тоже обязан покровительству Урбана, а род Барберини слишком влиятелен в церковных и светских кругах Рима, чтобы портить отношения с ним.
— Может быть, это и не к месту, ваша светлость, но во Франции сейчас немало говорят об удачном участии в войне против Испании и прочих ее врагов отряда польских воинов.
— То есть речь идет об украинских казаках, — уточнил кардинал.
— Значит, это не поляки? — вскинул брови нунций.
— Хотя и являются подданными польской короны. Чем, увы, они никогда не гордились. Кто и с чего вдруг заинтересовался ими в Ватикане?
— В Венеции, монсиньор, в Венеции. Но ведь вы же знаете, что нам не безразлична судьба римских земель, под чьим бы управлением они ни пребывали.
Мазарини задумчиво кивал. Конечно же казаками заинтересовались не в Ватикане, а в Венеции, как он не подумал об этом?! В канцелярии святейшего престола хотят как можно скорее погасить Тридцатилетнею войну Священной Римской империи. Слишком уж много церковных земель она разорила, слишком много убытков потерпели государства, а значит, и церковь Христова. Но из этого не следует, что папа способен отказаться от поддержки венецианских дожей и австрийского императора, которые как раз сейчас обостряют войну с Турцией и прочим мусульманским миром.
Одна из причин, по которым Риму хочется поскорее установить мир в Европе, как раз в том и заключается, что, высвободив силы, истекающие кровью в межхристианских сражениях, святой престол тотчас же попытается нацелить их на владения Османской империи.
— Украинские казаки в самом деле воевали настолько хорошо, как об этом твердит молва? — спросил нунций.
— Это хорошо обученные, закаленные воины. Контракт, по которому они сражались на стороне Франции, закончился, однако некоторые из этих воинов остаются, чтобы и впредь служить под знаменами Людовика XIV. Основная часть их полка отбывает или, может, уже отбыла на родину.
— Некоторая часть, вместе с князем Гяуром, отбывает со дня на день, — решил удивить его своей информированностью и в то же время исправить свою оплошность папский посол. — Однако полковник Сирко с сотней казаков все еще остается во Франции.
— Что ж, вам лучше знать, господин нунций, — ничуть не устыдился своей неосведомленности кардинал Мазарини.
— В последние дни мне приходилось пристально следить за Сирко, генералом Гяуром и их людьми. Кстати, мне известно, что князь Гяур отбывает в сторону польского порта Гданьска. Как считаете, он пожелает присоединиться к армии Хмельницкого?
— Скорее к армии польского короля, сражающейся против восставших казаков.
— Судя по всему, хан благосклонно относится к Хмельницкому, а значит, Стамбул тоже не прочь будет увидеть Речь Посполитую окончательно ослабленной. Неужели вы можете предположить, что участием в боях на стороне Польши князь Острова Русов решится нажить себе сразу трех могущественных врагов — в лице хана, в лице Хмельницкого и в лице султана Османской Порты? Что-то мне не верится в такую неосмотрительность нашего русича.
— Понимаю, князь еще может понадобиться Ватикану.
— Мечтая об освобождении Острова Русов, князь, скорее всего, охотнее станет сражаться с турками, нежели с казаками, а тем более — с поляками, на земле которых расположен его замок, и с аристократическим бомондом которых ссориться он не пожелает.
— Графиня де Ляфер. Вам известно это имя?
— Де Ляфер — не та женщина, при имени которой стоит стыдливо отнекиваться. Даже папскому нунцию.
И М? азарини вдруг показалось, что папирусно желтое лицо Барберини ожило и пропиталось едва заметным румянцем.
— Если в пределах нашего королевства и существует человек, способный знать о князе Гяуре все или почти все, так этим человеком как раз и является графиня. Вести в наш неспешный век, понятное дело, приходят с непростительной медлительностью. Особенно — со столь отдаленных столиц, как Варшава. И все же… Если вы действительно решите заполучить этого воина — лучше всего заманить его во Францию с помощью графини де Ляфер.
Вежливо склонив голову в знак признательности, нунций Барберини поднялся.
— С благословения святейшего престола мне велено было на словах передать вам следующее, — неожиданно произнес он совершенно иным, уже не светским, а хорошо знакомым Мазарини официально-соборным, почти заупокойным голосом. Словно собирался отпевать не только первого министра вместе со всей его Францией, но и святой престол со всеми его куриями и подносителями «гроша святого Петра». — Папа римский проникся величайшей озабоченностью тем небогоугодным кровопролитием…
— «… Которое продолжает ввергать в скорбь и смуту весь христианский мир», — завершил Мазарини теми словами, коими обязан был завершить свою речь сам нунций Барберини. Что поделаешь, нунций порой совершенно некстати забывал, что перед ним — предшественник на посту нунция папы во Франции. — Ни папа, ни тем более, вы, досточтимый нунций, не должны сомневаться в том, что, как и прежде, Франция считает себя наиболее верноподданной частью этого, осененного крестом и папской благодатью, мира, и скорбит по убиенным вместе со всем консисторатом [53].
Все слова вежливости были сказаны. На столе Мазарини лежала булла папы, позволяющая ему вести любые переговоры с правителями любой страны, прикрываясь при этом обращением святого престола. Ибо теперь уже получалось, что это не он, от имени обессилевшей в войнах Франции, молит и молится о мире; это сам папа римский обращается к нему, как кардиналу, со словами о вселенском примирении.
— Один из моих секретарей в ближайшее время встретится с оставшимися во Франции казачьими офицерами, — как бы между прочим, обронил Барберини, уже покидая кабинет первого министра. И поскольку он это действительно сказал, уже никто в королевстве не осмелится обвинить посла Ватикана в том, что он ведет переговоры с офицерами-наемниками, не имея на то разрешения правительства, которое этих самых воинов нанимало.
— Я так и не пойму, досточтимый нунций, что мы только что сделали: то ли решили погасить старую войну, то ли с той же непосредственностью договорились разжечь еще одну, более жестокую и кровопролитную?
— Мне не хотелось бы, чтобы после моих посещений вы читали свою Библию с той же исступленностью, с какой зачитывались после каждого визита своих генералов.
Взгляды кардиналов на какое-то время скрестились, однако глаза их, как и лица, оставались непроницаемыми, а потому безучастными. Как безучастными оставались и сами кардиналы ко всему, что происходило в этом, крестом и отчаянием осененном мире, если и не по их вине, то при их молитвенном безучастии.
37
Предгорья Судет провожали их первой прозеленью редколесья, весенним теплом и пологими, распаханными под крестьянские нивы склонами — бурыми и на вид совершенно безжизненными.
— Мы вступаем в благословенную Саксонию, граф, — напомнил виконт де Морель д’Артаньяну. — И где-то там, если мне не изменяет память…
— Обычно она предательски изменяет вам в самые неподходящие моменты, виконт. Но в этот раз вы совершенно правы: где-то там… Знать бы, где именно.
— Но к весне баронесса фон Вайнцгардт, как вы сами изволили сообщить, должна находиться на берегу Эльбы, в своем родовом замке.
— Кажется, вы набиваетесь к баронессе в гости.
— Что вы, лейтенант, приглашение приму только от вас. Одним поводом для дуэли окажется меньше. А дорогу к замку Лили нам, возможно, покажут баварские рыцари.
Они оба оглянулись на санитарную повозку, окружив которую, ехали молчаливые баварские рейтары. Германцы присоединились к ним уже за Краковом, сразу же после того, как подверглись нападению отряда гайдуков, отомстивших им за кровавое усердие, с которым наемники обычно расправлялись с повстанцами. Зная, что никакие сомнения и зов племенного родства рейтар не гложут, польские аристократы бросали их на подавление бунтов, как сухой хворост — к исчадию пожарища.
— А что, пожалуй, это мысль, — поддержал виконта д’Артаньян, как бы заново присматриваясь к капитану фон Кроффелю, который по старшинству чина был у баварцев за командира. — Они, конечно, не саксонцы… Тем не менее…
Сейчас обоз, охраняемый мушкетерами графа д’Артаньяна, состоял всего из нескольких повозок с продовольствием да кареты Даниила Оливеберга де Грекани, шведского посланника, по-прежнему выдававшего себя за лейтенанта де Гардена. Слишком уж нравилась эта дважды спасшая ему жизнь «странствующая роль».
После того как к ним присоединились баварцы, дипломат мог чувствовать себя в абсолютной безопасности. Тем не менее в карете сидел прихваченный им в Кракове швед, который выдавал себя за Даниила Оливеберга, в сумке которого хранились засургученные фальшивые письма, заменявшие те, которые сам Оливеберг, он же Даниил Грек, обязан был доставить. Одно из этих писем, от польской королевы Марии Гонзаги, предназначалось для королевы Франции Анны Австрийской. Второе — от польского короля принцу де Конде, в котором, зная влияние принца при дворе, Владислав IV, теперь уже покойный, просил помочь с набором французских наемников. И третье — от шведского посла, которое нужно было доставить через Францию королю Швеции. А вот о секретном письме Богдана Хмельницкого, адресованном главнокомандующему французскими войсками принцу де Конде, не знал никто, даже подставной швед.
Отряд баварцев состоял всего из пятнадцати воинов — все, что осталось от некогда более чем двухсотенного отряда, направленного в Польшу с благословения баварского эрцгерцога. Да и то трое из них возвращались с незажившими ранами и больше отсиживались в крытой повозке, нежели в седлах. Тем не менее сейчас, находясь на землях германцев, французы и шведский подданный могли чувствовать себя более или менее уверенно. На территории Польши они защищали баварцев, теперь настал черед этих наемников.
О баронессе фон Вайнцгардт капитан Кроффель, как выяснилось, слышал впервые. Но уверял, что по ту сторону Эльбы, в деревушке Мюншафт, живет отставной полковник, его родственник, истинный саксонец, который хорошо знает всех аристократов Верхней Саксонии. Так что о замке баронов Вайнцгардтов, ему, конечно же, кое-что должно быть известно.
— Мы найдем этот замок, граф, — заверил он д’Артаньяна. — Даже если для этого нам придется исколесить обе Саксонии, Верхнюю и Нижнюю, и если окажется, что находится-то он в благословенной всеми богами Баварии. — Располневший, рыжебородый, на вид более чем равнодушный, капитан мало напоминал боевого офицера. И странно было слышать, когда его баварцы говорили о нем как о человеке крутого нрава, жестокость которого могла затмить только его же собственная ярость.
— В Баварии это было бы очень кстати, — отчаянно поддержал его предположение д’Артаньян. — Клянусь пером на шляпе гасконца!
Холмистые перелески сменялись заливными лугами, топкие берега речушек — каменистыми взгорьями, на склонах которых копыта коней скользили словно по ледникам. Теперь их вел капитан Кроффель, и всем хотелось верить, что кратчайшим путем он ведет их к Эльбе, чуть южнее Дрездена, к тем местам, где есть паромная переправа через реку, за которой открывалась деревушка с непривычным названием Мюншафт.
Мушкетеры ворчали и требовали вернуться к накатанной дороге, вдоль которой случались трактиры и заезжие дворы. Германцы считали, что капитан слишком торопится и кончится это тем, что все они — и рейтары, и мушкетеры — останутся без повозок. И только д’Артаньян придавал капитану уверенности, поскольку готов был пробираться хоть через пекло, лишь бы поскорее напасть на следы Вайнцгардтов.
Но, добравшись до переправы, они, к своему удивлению, обнаружили следы не баронессы Лили, а капитана Стомвеля. Узнав, что среди пассажиров есть французы, перевозчики тут же поспешили сообщить, что только вчера они переправили французский обоз, охраной которого командовал тучный краснолицый капитан, в описании которого граф без труда узнал командира своих французских попутчиков.
Услышав имя капитана, мушкетеры обрадовались так, словно для них уже зазвенели колокола парижских соборов.
Граф узнал от родственника капитана Кроффеля, что баронесса фон Вайнцгардт наведывалась в свой замок, но две недели тому отправилась назад, в замок на Рейне. Но и этому сообщению обрадовался. Не нужно было терять время на поиски замка на Эльбе. К тому же в замке Вайнцгардт ему все было знакомо, все оживало в воспоминаниях.
«Баронесса специально возвращается в Вайнцгардт, чтобы быть уверенной, что я обязательно найду ее там, — понял лейтенант. — Кроме того, она, очевидно, побаивается, как бы замок не захватили ее обиженные родственники».
— Вперед, мушкетеры! — подбодрил он своих уставших спутников. — Отдыхать будем в прекрасном замке баронессы фон Вайнцгардт.
— Отныне, в какой бы части Европы мы ни очутились, отдыхать все равно придется только в замке баронессы фон Вайнцгардт, — более доходчиво разъяснил всем виконт де Морель.
38
Татарина, который прорывался к нему, Хмельницкий довольно долго не желал принимать. Он все пытался выяснить у Савура, кто этот ордынец: посланник Тугай-бея или гонец хана? Савуру пришлось дважды посылать своего казака к разъезду, который задержал татарина на дальних подступах к казацкому лагерю, поскольку впускать в него кого-либо из крымчаков — если только это не гонец Тугай-бея — запрещалось.
— Он сказал, что вы знаете его, господин командующий, — выяснил адъютант. — Назвался же он Корфатом.
Хмельницкий прилег отдохнуть в своем шатре. Он чувствовал себя крайне уставшим и не желал никого ни видеть, ни слышать.
— Можешь посадить его на кол. Очевидно, подослан поляками. Никогда не знал такого.
— Еще он назвал себя Вечным Пленником.
Гетман медленно приподнялся и, опершись на локоть, сонно посмотрел на Савура.
— Я знал только одного Вечного Пленника. В свое время он сопровождал меня во время поездки в Крым. Веди его сюда.
— Он уже у шатра.
Поднявшись, Хмельницкий присмотрелся к щупловатой — скелет, обтянутый кожей, — фигуре татарина, к его не по возрасту сморщенному лицу, к поясной, утыканной ножами, кобуре…
— Позволь припасть к ногам твоим, повелитель повелителей, — произнес гость по-украински, но припудривая слова истинно азиатской иронией. — К тебе так же трудно пробиться, как и к шатру турецкого султана.
— Виноват адъютант. Не узнал тебя, — устало ответил Хмельницкий, понимая, однако, что принимать этого человека должен был бы значительно приветливее и теплее.
— Но ты-то признаешь Вечного Пленника?
— Ты умудрился попасть в плен даже к нам? Кажется, ни вчера, ни сегодня с татарами мы не сражались. Или прежде ты успел повоевать за поляков?
Они оба сдержанно рассмеялись. Адъютант стоял у входа в высокий шатер, совершенно не понимая, о чем это они говорят.
— Ну как, сбывается мое предсказание, повелитель повелителей? Ты вновь одержал победу?
— Не мог бы ты отправиться к польскому королю и предупредить его, что все остальные сражения он тоже проиграет? Возможно, на этом война закончилась бы.
— Но в таком случае для меня она завершится плахой, — рассмеялся Вечный Пленник, нервно пощупывая пальцами свои ножи. — К «в? ечному плену» я уже кое-как привык, а вот к плахе пока нет.
Они вышли из шатра и сели за длинный дубовый стол, опоры которого были врыты в землю. Лагерь суетился чуть ниже, вокруг подножия холма. Ржание лошадей, голоса и пальба в воздух, которой кто-то, скорее всего, слишком запоздало праздновал победу…
— Ты все же решился перейти на службу ко мне?
— Пока нет, повелитель повелителей.
— Сделаю тебя сотником.
— Пока только решаюсь служить Карадаг-бею.
— Его аскеры в одном лагере с аскерами Тугай-бея?
— Отдельно. Два хана одной ордой править не могут. Как не поместить одну стрелу в два колчана. Когда предложишь чин полковника, повелитель повелителей, тогда, может, и соглашусь.
— Не предложу. Не признает мой полк нехристя полковником, — слишком серьезно, чтобы это выглядело шуткой, ответил Хмельницкий. — И тебе, магометанин, придется с этим считаться. Что привело тебя в мой лагерь?
— Просьба одного пленного поляка.
— Я просьб не принимаю. Судьба всех пленных, которых мы передали в дар хану или Тугай-бею, уже решена.
— Этот пленник не является ни знатным, ни богатым. Но он уверен, что ты спасешь его, повелитель повелителей. Фамилия его — Выховский. Он утверждает, что вы давно знакомы.
— Выховский? — поморщился Хмельницкий. — Не припоминаю такого, — решительно повертел головой.
— Или, может, Витовский? Очевидно, я неправильно произношу его фамилию. Иван Витовский — такой вам знаком?
— Только что я точно так же вспоминал тебя. Запомнилась кличка — Вечный Пленник. Но вот Иван Выховский… или Витовский… Что ты еще знаешь о нем?
Корфат ожесточенно почесал затылок, погладил морду подошедшего к нему коня, словно и его просил напрячь мозги…
— Кажется, он был писарем каким-то. Вначале вроде бы в суде, затем — при важном поляке, некогда служившем в Украине.
— Писарем при польском комиссаре в Украине? — подался к татарину через стол Хмельницкий.
— Точно. При комиссаре.
— Тогда это Иван Выговский! [54] Черт возьми, так бы сразу и сказал! Где он сейчас?
— Был польским офицером, но тоже при чернильнице. А попался моему земляку, татарину Шеляту. Тот возиться с писарем не хочет. Ему бы хорошего коня, красивое седло, два пистоля да пару золотых. Если у тебя, повелитель повелителей, окажется два лишних коня, то одного, так уж и быть, приму я. За то, что спас твоего знакомого.
— Этого человека я обязан выручить. Савур! — позвал своего ординарца. — Немедленно разбуди сотника Ичняка. Сюда его.
Не прошло и получаса, как Ичняк подобрал двух рослых коней, которые, судя по убранству седел, служили польским офицерам, трофейную гусарскую саблю и два пистолета. Деньги Хмельницкий дал сам, прибавив к ним несколько серебряных монет для Вечного Пленника.
— Бери пятерых казаков и немедленно гони вместе с Корфатом в татарский лагерь. Найди там этого писарчука Выговского и доставь ко мне, — приказал он Савуру. — За то, что сражался против нас, отмерь ему пару нагаек. Если не сразу согласится служить писарем у меня, отстегай еще раз, но чтобы он в состоянии был предстать передо мной. Хоть он и шляхтич, сын шляхтича, но все же… украинец, из Волыни.
Появившись у шатра Хмельницкого, бывший писарь от радости упал перед гетманом на колени.
— Век признателен тебе буду, брат! — почти со слезами на глазах проговорил он. — Попал бы в плен к казакам, не молил бы о выкупе. Но ведь к татарам же…
— На галерах писарей не очень-то жалуют, — согласился с ним гетман. — Разве что в евнухи… — оценивающе осмотрел Выговского. — А что, за евнуха ты вполне сошел бы.
— Я — дворянин, господин Хмельницкий, — укоризненно напомнил ему Выговский, поднимаясь с колен и отряхивая свой все еще довольно опрятный мундир.
— Евнушеству это не мешает, — заверил его Хмельницкий и, вновь пройдясь придирчивым взглядом по щупловатой фигуре писаря и его богообразному бледному лицу, очень сильно усомнился в том, что этот шляхтич сумел поразить татар своим неукротимым мужеством. Ну да что с него возьмешь, с писаря?
— Ты ведь сам был писарем, — неожиданно напомнил ему пленник.
— Генеральным. Это несколько не то, о чем ты думаешь, — невозмутимо уточнил Хмельницкий. — К тому же полковником. Идешь ко мне на службу? Или предпочитаешь из одного плена в другой? Ты ведь сражался не только против татар, но и против казаков.
— Я уже думал об этом, — Выговский потер плечо и обиженно взглянул на Савура.
«Без плетки не обошлось», — понял Хмельницкий.
— Так что ты надумал, евнух-писарь?
— Что тут можно надумать? Согласен, конечно.
— Только смотри: если поляки тебя схватят, они о дворянском происхождении твоем тут же напомнят и уже не простят.
— Мне уже никто ничего на этом свете не простит. Видно, так и погибну непрощенным. Но такой писарь, как я, вашей армии понадобится. Возможно, во всей Украине грамотнее не сыщете.
— Иначе не предлагал бы службу. Ладно, живи, писарь казачий. Перо и чернильницу — новому писарю!
39
Еще двое суток они двигались по следам обоза капитана Стомвеля, пытаясь догнать его, но тот словно бы умышленно скрывался или уходил от погони.
Они уже преодолели большую часть Саксонии, и баварцам самое время было уходить на юг, в родные края. Но, посовещавшись, бывшие наемники решили отпустить только повозку с ранеными, в сопровождении двух воинов охраны. Остальные девятеро рейтар во главе с капитаном фон Кроффелем вызвались провести французов до Рейна.
— Это по-рыцарски, капитан, — пожал лейтенант мушкетеров руку фон Кроффеля, узнав о решении баварцев.
— Рыцарство зарождалось здесь, на землях Германии. И здесь оно будет возрождаться, — каждое слово фон Кроффель произносил так, словно провозглашал тост, потрясая при этом грозно поднятым вверх кулачищем.
Д’Артаньян твердо знал, что родина рыцарства находится значительно западнее и зовется Францией, но это не помешало ему еще раз пожать руку капитана.
— Наше рыцарство — на кончиках шпаг и в глубине души. И зарождалось оно в разных странах, — счел необходимым уточнить он.
Едва они успели расположиться небольшим лагерем на краю деревушки, у заезжего двора, как на дороге появился мальчишка, восседавший на коне без седла, судя по всему, местный пастушок.
— Кто тут у вас старший?! — еще издали прокричал он. — Там, в долине, у родника, шайка бандитов окружила обоз каких-то иностранцев-военных. Это их донимает бандит Шульмах, который позавчера напал на нашу деревню!
— О, святые архангелы! — взмолился владелец заезжего двора, лично вышедший встречать такую большую группу неожиданных гостей. — Опять этот Шульмах! Дважды маркграф при всем народе обещал повесить его, и дважды этот висельник умудрялся бежать буквально из-под карающей петли.
Граф и Кроффель переглянулись.
— Вдруг бандиты окружили обоз ваших французов? — молвил баварец.
— Да чей бы он ни был! — воинственно прокричал д’Артаньян. — Повозки оставляем здесь, под охраной двух ваших баварцев. Всем остальным — в седла.
Мчаться пришлось недолго. Схватка происходила буквально в миле от деревушки. Поднявшись на небольшую возвышенность, мушкетеры и баварцы мигом оценили ситуацию. Обоз оказался окруженным внизу, у родничка, из которого вытекал небольшой ручеек. Его охрана отстреливалась, прячась за повозки, стволы деревьев и руины какого-то домишки, а возможно, часовенки.
Судя по тому, что на склонах возвышенности уже лежало несколько тел, разбойники попытались было с ходу атаковать добычу, но были отбиты и теперь не особенно рвались в бой, очевидно, рассчитывая захватить его попозже, когда стемнеет.
Завидев первых двух всадников, разбойники, видимо, решили, что это отставшие воины обоза. Но когда на возвышенность взошел весь отряд, редкая цепь всадников, окружавших обоз, разлетелась по склонам долины, переметнувшись на ту, южную, сторону ее, так что теперь лагерь оказался между отрядами д’Артаньяна и Шульмаха.
— Эй, вы кто такие?! — послышалось из-за повозок. Охрана все еще не верила, что это прибыло неожиданное подкрепление, и опасалась, что его появление — уловка разбойников.
— Есть ли среди вас капитан Стомвель?
Ответом д’Артаньяну было несколько выстрелов, один из которых прострелил его плащ.
— Вы не на тех заряды тратите! — во всю мощь своей глотки прокричал д’Артаньян. — Я спрашиваю: есть ли среди вас капитан Стомвель?
— Уж не мушкетеры ли вы?! — послышалось из повозочного лагеря.
— Перед вами — лейтенант д’Артаньян, лейтенант Гарден и виконт де Морель!
— Тогда чего мы ждем? К ночи мы перевешаем весь этот бандитский сброд! Это я вам говорю, капитан Стомвель!
Возрадовавшись столь неожиданной встрече, спешенный Стомвель, вместо того, чтобы вернуться в седло, вскочил в крытую повозку и, приказав остальным возчикам следовать его примеру, погнал коней прямо на три десятка сбившихся у леска разбойников, которые из алчности не решались отступать даже сейчас, когда стало ясно, что захватить обоз иностранцев не удастся.
Д’Артаньяну впервые пришлось видеть, как в атаку идут обозные повозки, очень мало напоминающие боевые колесницы. Однако открыл для себя, что, сбившись в кучу, они предстали перед разбойниками мощной лавиной, способной разметать какой угодно кавалерийский отряд.
— Не перетопчите моих врагов, Стомвель! — прокричал д’Артаньян, пытаясь вклиниться между двумя повозками. — Это будет нечестно!
— По уцелевшим я специально прокачу весь свой обоз! Это я вам говорю, капитан Стомвель!
Убедившись, что они потерпели поражение, разбойники попытались уйти по лесу, но не учли, что сразу за опушкой начинался густой кустарник, который уже успели охватить полукругом мушкетеры и баварцы. Приблизившись к этому терновому полю, повозки Стомвеля развернулись, а сидевшие на них солдаты охраны расстреляли кустарники из ружей и пистолетов, словно охотились на куропаток.
Двое разбойников попытались прорваться у небольшой рощицы, возле которой оказался виконт де Морель. И мушкетер вряд ли долго продержался бы, если бы возникший неподалеку д’Артаньян не рассек голову коня одного из нападавших, вынудив его спешиться. А потом, спешившись сам, сразился с ним, после третьего же выпада ранив в ногу.
— Кроме всего прочего, вы еще и фехтовать-то не умеете, сударь, — сделал ему замечание лейтенант, выбивая из рук саблю и прижимая острием шпаги к стволу дерева.
— Вам помочь, граф? — услышал он позади голос де Мореля.
— Вы, как всегда, кстати, виконт. Будьте добры, покажите этого негодяя капитану Стомвелю. У него свои счеты с этими разбойниками, где бы они ни встречались на его пути. Своего вы, надеюсь, не упустили?
— Увы, он бежал, — угрюмо признался виконт.
— Вот так всегда, де Морель. А что было бы, если бы я не спешил их обоих?
Мимо них прорывалась еще одна группа из трех разбойников. От сабельного удара одного из них д’Артаньян уклонился, припав к стволу дуба, а вслед другому метнул рапиру, словно дротик. К изумлению де Мореля, она вонзилась разбойнику в спину так глубоко, что, взвыв от боли, тот свалился на куст терновника.
— Прошу прощения, мессир, — бросился к нему д’Артаньян. — В сражении с разбойниками я иногда использую и этот, не самый благородный, прием.
Прежде чем извлечь рапиру, он еще сильнее вогнал ее в спину сраженного и лишь тогда вернулся к де Морелю, опасаясь, как бы от того не ушел еще и раненый пленник.
Когда через несколько минут бой был завершен, французы и баварцы привели к лагерю целый табун лошадей и принесли два десятка пистолетов. Один солдат из отряда Стомвеля был убит, один ранен. Раненным в ногу оказался и гвардейский лейтенант Морсмери. Однако все это не могло затмить радости победы.
— Кого это вы привели, господа мушкетеры?! — воскликнул Стомвель, увидев перед собой разбойника, раненного д’Артаньяном. На другого пленного он попросту не обратил внимания. — Да это же не кто иной, как сам главарь! Ты кто? Ты ведь и есть тот самый Шульмах? — спросил он по-германски, упираясь кончиком сабли ему в живот.
— Видит Бог, нет.
— Но ведь это ты требовал, чтобы мы без боя отдали вам обоз и убирались восвояси.
— Требовал действительно я, однако настоящий Шульмах сумел уйти.
— Ну-ка, подведите мне вон тех двоих разбойников, — потребовал капитан, вновь садясь в седло.
Одного из пленников он зарубил сразу же, не молвив ни слова. Над другим занес саблю и сказал:
— Если хочешь жить, скажешь мне правду. Кто этот человек?
— Шульмах, — ответил тот, становясь на колени. — Шульмах он, пощадите меня!
— Ладно, пощадим его, — объявил Стомвель, — пусть им занимается местная полиция. А этого, — указал на главаря, — свяжите и положите на дороге, по которой мы будем возвращаться к заезжему двору. Ты хотел владеть этим обозом, негодяй? Он весь твой, это я тебе говорю, капитан Стомвель, — заявил он, когда приказ был выполнен и главаря, привязав к двум деревьям, уложили между ними на дорогу. — Пропустить через него все повозки! Если после этого он выживет — тогда я признаю, что Господь благосклонен даже к разбойникам!
И, презрительно сплюнув в сторону обреченного, присоединился к офицерам-мушкетерам, твердо решившим провести остаток вечера за кружкой пива в таверне заезжего двора.
— А ведь знаете, почему мы задержались здесь, граф — спросил Стомвель, когда проклятия главаря разбойников потонули в скрипе колес и ржании испуганных лошадей, не желающих наступать на человека. — Потому что решили нанести визит вежливости баронессе Лили фон Вайнцгардт.
— Как, и вы тоже — с визитом вежливости, капитан?! — шутливо удивился мушкетер. — Вот уж не подумал бы.
— Только в надежде увидеть в замке баронессы вас, господин лейтенант.
— И чем это кончилось для обитателей замка?
— Мы не успели. Ровно на сутки. Баронесса, оказывается, тоже нанесла в свое родовое гнездо всего лишь визит вежливости, после чего вновь отбыла в замок Вайнцгардт, поближе, как я понял, к Франции.
— Еще сегодня утром ваше сообщение оказалось бы для меня неоценимым, капитан.
— Поверьте, граф, если бы нам удалось застать баронессу, мы конечно же уговорили бы ее задержаться и подождать вас. Но она, очевидно, рассчитывает, что уж в том, рейнском, замке обязательно дождется. Хотя, можете мне поверить, здесь у нее не замок, а целая крепость. Никогда бы не подумал, что это невинное создание станет владельцем таких неприступных каменных цитаделей. Зачем они ей, граф? — хитровато улыбнулся Стомвель, подкручивая седеющий ус. — Нет, вы все-таки подумайте над моим вопросом. Это я вам говорю, капитан Стомвель.
40
При свете полной багряноликой луны башня представала перед баронессой Лили фон Вайнцгардт как мрачное видение веков, возродившееся из небытия, из каменной вечности горного плато, из ее собственной фантазии. И обер-мастер фортификационных дел Гутаг был здесь ни при чем. Единственная его заслуга заключалась в том, что он сдержал свое слово: рабочие трудились, как проклятые, и сегодня, до заката солнца, башня была завершена.
Уже трое суток баронесса старалась не заглядывать в этот уголок замка Вайнцгардт, дабы не видеть его недостроенным. И только сегодня, когда рабочие разошлись и вышла луна, пришла сюда, буквально прокралась на этот высокий страшный выступ, и замерла, восхищаясь тем единственным, что способно пережить века, чтобы остаться легендой рода Вайнцгардтов, легендой всего этого края — “Башней Лили”, башней баронессы Лили фон Вайнцгардт.
Вечером летописец замка и рода Вайнцгардтов успел записать, что «сегодня обер-мастером Гутагом возведена новая башня, названная «Башней Лили» в честь баронессы Лили фон Вайнцгардт, по чьему повелению она и была воздвигнута».
Баронесса подошла к стене, пальцами прощупала студеную шершавость одного камня, второго, третьего… Это ее башня, ее вечность. Казалось, что она возведена здесь давно, и под завывание вечернего ветра в ее бойницах оживают голоса некогда обитавших, гибнувших в ней во время осад и сражений людей.
— Вы правы, баронесса, — вдруг услышала за своей спиной голос старого мастера, — вся история человечества написана башнями крепостей. Камни сохраняют голоса и лики людей, они же источают видения, способные являть наше прошлое и будущее. Всю свою жизнь я строил замки и крепости, и потому, как никто, способен понимать вас.
— И даже являть нам будущее? — усомнилась баронесса. — Хотелось бы верить в такую способность, господин Гутаг. Я загадала, что в тот день, когда будет завершено строительство моей башни, здесь появится тот, кто должен был бы взойти на нее вместе со мной.
— Башня стоит того, чтобы загадывать подобные желания.
— Однако он все еще в пути, и кто знает…
— Но ведь вы верите, что путь его к замку уже недолог.
— Стараюсь верить.
— Именно верой я истолковывал вашу нетерпеливость, — мягко, по-отцовски пожурил ее фортификационных дел мастер. — Возможно, так оно и произошло бы: ваш граф появился бы здесь как раз в тот день, когда башня была бы завершена. Но вы слишком торопили меня и моих рабочих. Настолько торопили, что сумели опередить естественный ход событий. Разве такое невозможно?
— Что же мне теперь делать? — с мрачной иронией спросила Лили. — Приказать, чтобы ее взорвали и начали строить заново?
— Взрывать ее пришлось бы вместе со мной. Но только запомните мои слова: когда строят башни, то возводят их не из камней — камень всего лишь материал, — а из человеческого терпения, которое неминуемо передается затем самой башне, крепости. Адское терпение, пронизывающее каждый камень, — вот что превращает наши замки и крепости в цитадели вечности, в большинстве своем не поддающиеся разрушению.
— Это все о камне, мастер. Люди же разрушаются от своего собственного многотерпения. Вот почему они столь недолговечны.
— Вы так считаете? — настала пора растерянности мастера.
— Так «считает» сама жизнь. И вы прекрасно понимаете это.
Гутаг мрачно помолчал, прокашлялся…
— Я слишком долго общался с камнем. Прислушивался только к его голосу, — извиняющимся тоном признался обер-мастер. — Теперь хорошо знаю, как воспринимает этот мир камень, но совершенно забыл, как воспринимают его люди.
Уснула Лили только под утро. Но уже через час была поднята с постели своей горничной. Она доложила, что прибыл мальчишка, сын работника из заезжего двора, расположенного по ту сторону леса, с которым Отто Кобург договорился на случай появления французского обоза.
— И где же он, где обоз?! — не выдержала пытки медлительностью баронесса. — Я не каменная и не нужно испытывать меня библейской таинственностью!
— Поздно вечером обоз прибыл в деревню и заночевал у заезжего двора.
— Это действительно тот обоз, которого я жду?
— Мальчишка уверяет, что тот. Отец спросил у солдата, есть ли среди офицеров граф д’Артаньян. Мушкетер ответил: «Есть». И даже показал его.
— Братьев Кобургов сюда! — оживилась баронесса. — Немедленно седлать коней! Что делает мастер Гутаг?
— Спит. Ему тоже седлать?
— Не стоит. Просто передай, что я не зря торопила его. Мое женское предчувствие Господь приравнял к предвидению.
— Так и передам, — радостно заверила ее молодая горничная, знавшая, как баронесса истосковалась по этому своему бесчувственному графу-мушкетеру.
Лили, одетая в пурпурный плащ, тот самый, в котором встречала мушкетеров во время их прошлого визита в Вайнцгардт, уже выезжала из ворот замка, когда из домика для прислуги выбежал мастер фортификационных дел. Сонный, с непричесанными седыми волосами, в накинутой на плечи куртке, он торопился к подъемному мосту с такой поспешностью, словно хотел попросить прощения, что проспал появление в этих краях мушкетеров с их обозом. Но примечательно, что в руках мастера уже виднелись бутылка вина и бокал.
— Я неправ, баронесса! — на ходу прокричал он, не осмеливаясь надолго задерживать Лили. — Просто я всю жизнь имел дело с камнями и почти совершенно не знал женщин! Теперь я понимаю, почему вы торопили судьбу!
— Рада, что хоть чему-то сумела научить вас, мой умудренный жизнью и науками фортификационных дел мастер! — с милой снисходительностью успокоила его баронесса, чуть задержавшись у обводного рва.
— Но вы не знаете главного. По-настоящему башня рождается не тогда, когда ее закончит мастер, а когда родится первая легенда о нем. Так вот, — потряс он бутылкой и бокалом, — первая легенда «Башни баронессы фон Вайнцгардт», «Башни Лили» уже родилась. Как оказалось, в ночь, когда был заложен последний камень, баронесса, как и было ею загадано, дождалась своего возлюбленного! Ну и так далее. Все будет очень трогательно. Вы слышали когда-нибудь легенду, прекраснее этой, баронесса?!
— Прекраснее просто не бывает! — озорно воскликнула Лили, бросая коня на еще скрежещущий подъемными цепями мост.
— Тогда я пью за баронессу Лили, ее возлюбленного и легенду их башни!
41
Оказавшись по ту сторону обводного рва, баронесса осадила коня и оглянулась. Замок показался ей чужим, мрачным и неприступным. У нее было такое ощущение, что, покинув его сейчас, она уже никогда не сможет вернуться в его стены, ибо ворота этого каменного чудовища навсегда останутся закрытыми для нее.
Решив, что фон Вайнцгард заметила что-то подозрительное на опушке соснового леска, кирасиры-телохранители обошли ее и, выхватив сабли и пистоли, предстали между сосняком и баронессой. Однако Лили никакого значения их маневрам не придала. Загнав коня на небольшую подковообразную возвышенность и развернув его, она отыскала взглядом черный полукруг «башни Лили», который оттуда, из ложбины, отыскать не могла.
Творение мастера Гутага мрачно высилось на краю плато, самоубийственно засматриваясь в глубину каньона, порождавшую стремнину бурлящей реки. «По-настоящему башня рождается не тогда, когда ее закончит мастер, а когда родится первая легенда о ней», — вспомнились слова старого творца цитаделей.
Если окажется, что с обозом, о котором сообщил ей парнишка из ближайшего села, в самом деле прибывает граф — можно считать, что легенда уже зародилась, а значит, мастер Гутаг был прав. К тому же пророческим стало и ее предсказание относительно того, что лейтенант королевских мушкетеров появится именно тогда, когда завершится строительство башни. Видно, в очередной раз сработало женское предчувствие, приравненное Всевышним к провидению.
Преодолев небольшой лесок, подковообразно охватывающий подножие плато, всадники свернули с дороги и направили коней к Сторожевому холму, на вершине которого все еще бредили веками и вечностью руины дозорной башни. В былые времена на обведенной земляным валом башне постоянно находился дозорный, звуком боевых труб уведомлявший обитателей Вайнцгардта о приближении важных гостей и не менее важных врагов. Вспомнив об этом, баронесса решила, что традицию следует возродить, поскольку ни врагов, ни гостей у замка не уменьшилось.
— Кого ждем? — поинтересовался младший из братьев, Отто, придерживая коня на рассеченном ливнями пригорке неподалеку от холма.
— Графа.
— Какого еще графа?
— Французского.
— Какого «французского»? — невозмутимо допытывался Отто, давно привыкший к односложности ответов старшего брата.
— Королевского мушкетера, — почти по складам произнес Карл, выражая тем самым яростное неудовольствие тем, что брат задает вопросы именно тогда, когда задавать их совершенно бессмысленно.
— Неужели д’Артаньяна? — удивленно повел подбородком Отто, хотя удивлялся он крайне редко.
Он давно привык к тому, что жизнь, со всеми ее тревогами, усладами и нелепостями, проходит как бы мимо него, разбиваясь о сознание старшего брата, как морской прибой — о гранитную скалу. Самого Отто вполне устраивало бытие фантома: ему велели — он исполнял; на него нападали — рубился умело и почти виртуозно, одинаково хорошо владея копьем, мечом и кавалеристской саблей. Если же, захватив за талию одну из дев, Карл движением подбородка указывал на ее подругу: «Бери эту», мгновенно подхватывал и усаживал в свое седло или, когда действие происходило в трактире, — себе на колени.
— В прошлый раз баронесса дождалась этого француза на плато у замка, — безо всякого осуждения напомнил он Карлу.
— В прошлый раз — да. Вот только дожидаться его баронессе становится все труднее.
— Этого француза?! — легкомысленно не поверил ему Отто, скабрезно ухмыльнувшись в жидковатые рыжие усы. Он никогда не позволял себе осуждать решение баронессы, однако никто не мог запретить ему отвести душу на мушкетере. — Здесь, в благословенной Германии, где столько достойных рыцарей?! — что-то не складывалось в сознании кирасира. — Такого не может быть!
— Воля баронессы, как и воля Всевышнего, сомнениям не подлежит, — холодно возмутился старший из Кобургов. — Рыцарю это следовало бы знать.
— Даже когда воля баронессы противоречит воле Всевышнего.
Карл внимательно присмотрелся к ничего не выражавшему выражению лица брата: «Наконец-то взрослеет! Ему бы еще немножко поумнеть!».
42
Лес расступился неожиданно, и по ту сторону равнины, на возвышенности, возникли очертания могучего, хорошо укрепленного замка. Сверкая на солнце серебристой кровлей своих башен, шпилей и дворцовых строений, он восставал на высоком горном плато, как ниспосланная вернувшимися на землю атлантами корона, увековечивающая древний род Вайнцгардтов, германскую империю, мощь непоколебимого в своей воинственности и воинственного в своей непоколебимости тевтонского духа.
— Граф, — указал Стомвель острием сабли на зеленеющий чуть в стороне от плато, на берегу реки, высокий шлемообразный холм. — Взгляните на это зрелище. Чтобы хоть раз, хоть на мгновение, увидеть его — стоит пройти с боями пол-Европы. Это я вам говорю, капитан Стомвель.
Поглощенный завораживающим видением замка Вайнцгардт, лейтенант только теперь обратил внимание на возвышенность, на которой постепенно вырисовывалась фигура всадницы. Восходя на вершину, она очерчивалась все отчетливее, и в ярких лучах восходящего солнца накидка ее постепенно проявлялась, наливаясь пурпурными отблесками зари, маня и очаровывая…
Обоз вытекал из-под огромного солнечного овала словно из-под мельничного колеса. Наблюдая за группой всадников, Лили фон Вайнцгардт пыталась разглядеть среди них знакомый силуэт, но озаренные утренними лучами конники были похожи на вырастающие из утренней дымки привидения. Она не могла слышать, как, указав в ее сторону острием клинка, капитан Стомвель спросил, обращаясь к д’Артаньяну:
— Вы не знаете, граф, кто это там предстает перед нами в пурпурном плаще?
— В любом случае этот рыцарь мало напоминает главаря разбойников.
— А, судя по тому, что мы приближаемся к владениям фон Вайнцгардтов, — прокричал капитан, который вырвался далеко вперед и уже успел рассмотреть в пурпурном всаднике женщину, — то будь я воспет всеми ангелами небесными, если это не владелица замка баронесса Лили!
Ему что-то прокричали в ответ, однако Стомвель не стал прислушиваться к словам своих спутников. Забыв о такте и приличии, капитан помчался к подножию сторожевой башни с таким пылом, словно женщина в пурпурном одеянии вышла из замка только для того, чтобы приветствовать его и обоз. Вслед за ним, очевидно, на правах хозяина, отвечающего за безопасность своих спутников-гостей, помчался и капитан Кроффель.
— Не боитесь опоздать, д’Артаньян? — вежливо поинтересовался виконт де Морель, как всегда в подобные минуты оказавшись рядом с лейтенантом мушкетеров. — Слишком уж бодро ринулись эти наши капитаны навстречу даме в пурпурном.
— Это они от восторга, — благодушно успокоил его д’Артаньян, хотя и понимал, что ситуация в самом деле выглядит комично. И присоединяться к капитанам не стал. — Они ликуют так же, как и я. Клянусь пером на шляпе гасконца, что это и в самом деле баронесса Лили!
Первым понял бестактность своего поступка капитан Стомвель. Он осадил коня, развернул его, что-то прокричал Кроффелю, и оба благоразумно направились к обозу.
А графу д’Артаньяну вдруг вспомнилось, как баронесса Лили встречала его со своими саксонскими драгунами во время прошлого визита, и душа, все естество его преисполнилось ликующей святостью. Размечтавшись, он вдруг решил, что так должно быть всегда. Что такая вот встреча обоза баронессой и ее телохранителями могла бы стать одной из нерушимых традиций этого древнего замка.
— Но почему замок Вайнцгардт расположен не во Франции, капитан? — едва сдерживал граф некстати разыгравшуюся, почувствовавшую уют и сытость саксонских конюшен лошадь.
— Стоит ли отчаиваться? — беззаботно рассмеялся драгун. — Роты ваших мушкетеров да роты моих храбрецов вполне хватит, чтобы замок Вайнцгард, со всеми его окрестностями, раз и навсегда оказался в пределах благословенной кардиналом Мазарини и саблями моих парней Франции. Это я вам говорю, капитан Стомвель!
— Почему бы нам не взять его штурмом прямо сейчас? — иронично предложил виконт де Морель. — Тем более что перед вами, граф д’Артаньян, замок готов капитулировать в любую минуту.
— Прошу прощения, лейтенант, — не удержался д’Артаньян, — но, видит Бог, в душе вы так и остались сержантом Пьемонтского пехотного полка. — И был удивлен, что виконт не схватился за шпагу и не пригрозил очередной дуэлью.
Зато капитан Стомвель вновь решительно привстал в стременах и выхватил саблю, словно в тот же миг готов был ринуться на штурм замка, но вместо этого движением клинка указал путь обозу к ложбине, слева от ворот, очень удобной для того, чтобы расположиться в ней лагерем. Он понимал, что в сторону холма лейтенанту д’Артаньяну лучше ехать в величественном одиночестве.
Почувствовав, что теперь он предоставлен самому себе, мушкетер поначалу пришпорил коня, но, проскакав галопом небольшую ложбинку, вновь попридержал его, решив, что мчаться на виду у всего отряда к степенно, с нордической безучастностью поджидающей его баронессе как-то не очень…
— И все же, не теряйте времени, лейтенант! — издали подбодрил его де Морель.
Оглянувшись, мушкетер увидел, что виконт, хотя и держится позади, но все же отъехал от обоза и старается сопровождать его. Что ж, решил граф, даже во Франции лишняя шпага никогда не оказывается… лишней, а мы как-никак движемся землями полувраждебного нам правителя. Впрочем, в следующую минуту мушкетер забыл и о лейтенанте де Мореле, и о капитане Стомвеле с его обозом. Проследив за тем, как братья Кобурги неспешно ретируются к подножию холма, он сорвал шляпу и, размахивая ею словно саблей, помчался было, к ожидавшей его женщине, но, устыдившись собственного восторга, тут же осадил коня.
В это же время оживилась Лили. С удивлением признав во всадниках Стомвеля и не обращая внимания на еще какого-то незнакомого ей офицера, она воспользовалась тем, что наперехват им бросились телохранители и, пройдя между капитанами, неспешно, с достоинством направила коня к д’Артаньяну. Как же много ей хотелось сказать сейчас этому мужчине! С какой ликующей страстью она могла бы броситься в его объятия. Какими лишними казались все те люди, которые окружали сейчас ее и мушкетера!.. Впрочем, пылкости воображения хватило только на то, чтобы подняться на вершину представавшей перед ней небольшой возвышенности, и тем самым вновь придать храбрости французу.
Внутренне мушкетер ожидал, что Лили не удержится и тоже помчится навстречу ему, и это была бы трогательная встреча на глазах у всех. И был удивлен, когда, ворвавшись на вершину возвышенности как на вражеский редут, он увидел, что женщина по-прежнему остается неподвижной, как изваяние. Ни один мускул на ее мраморно-белом нордическом лице не дрогнул; ни одна черточка, ни одно, пусть даже мимолетное, движение глаз не выдали ни радости, ни удивления.
Выслушивая сумбурные восторги лейтенанта, состоящие из бессвязных и только им двоим понятных выкриков: «Лили! Баронесса! Этот замок!.. Клянусь пером на шляпе гасконца!..», владелица Вайнцгардта внешне по-прежнему оставалась безучастной и к чувствам мушкетера, и к его ошалелости. Даже конь ее — рослый, ширококрупый «тевтонец», запрокинув голову, презрительно фыркал, не замечая ни тянущегося к нему вспененной мордой собрата, ни его всадника.
Лишь поставив коня так, чтобы, стремя к стремени, оказаться рядом д’Артаньяном, баронесса вдруг горделиво выпрямилась и, смерив мушкетера взглядом, преисполненным холодного величия, произнесла:
— Вы опять в наших владениях, граф? Рада видеть. Просто удивительно, как часто дороги некоторых французских рыцарей пролегают рядом с моим, удаленным от больших дорог замком!
Причем сказано это было таким убийственно безразличным тоном, словно между ними никогда не было ни преисполненных любви ночей, проведенных в замке, ни нескольких месяцев разлуки, во время которой произошел полный смертельной опасности и всевозможных приключений вояж в Польшу. И вообще свое «рада видеть» баронесса молвила так, словно надеялась лицезреть перед собой какого-то другого человека.
— Совершенно непостижимый случай, баронесса, — вежливо приподнял шляпу лейтенант королевских мушкетеров. — Видит бог, мы с капитаном Стомвелем всячески пытались обойти эти глухие, хотя и прекрасные, места, но обоз, баронесса, обоз… Такое впечатление, что судьба уже ведет его не по земным дорогам, а по небесным. Разве я не прав, виконт де Морель?
— Вы, как всегда, неистребимо правы, граф, — артистично вознес виконт руки к небесам. — Мы несколько раз сбивались с пути, и господину мушкетеру едва удалось найти дорогу к вашему замку. Хотя раньше уверял, что пройдет к нему через всю Германию с завязанными глазами.
— Вот что значит отправляться в путь с другом, который никогда не выдаст и не предаст, баронесса! — с грустной иронией заключил мушкетер.
— Виконт всего лишь хотел убедить вас, что вы зря так долго противились судьбе, — с едва заметной улыбкой молвила Лили. — Небесам такие интриги не нравятся.
— Вы слышали, виконт, что баронесса сказала относительно интриг? — проворчал д’Артаньян, прикидывая, на какое время лучше всего назначить дуэль, чтобы сразиться еще до того, как они войдут в замок или же после того, как германцы предложат оставить его? И в конечном итоге решил, что лучше после…
* * *
Сойдя с коня, лейтенант приблизился к всаднице и одной рукой чувственно провел по ее ботфорту, второй притронулся к затянутым в кожаную перчатку пальцам.
— Мне уже не верилось, что я когда-нибудь увижу вас, баронесса.
— Ах, не верилось?! — удивленно взметнулись к увитому золотистыми локонами лбу изогнутые брови Лили. — Как это понимать, граф?
— Наш вояж в Польшу оказался, как никогда, опасным, так что я мог и не вернуться.
— Вы не могли не вернуться, лейтенант, — решительно повела головой Лили. — Это было бы непростительно.
— То есть я имел в виду… — смущенно объяснил мушкетер, — что в одном из сражений я мог бы погибнуть.
— Это еще не основание для того, чтобы не навещать Вайнцгардт. — В устах любой другой женщины слова ее, возможно, прозвучали бы в виде банальной шутки, однако Лили произнесла их с такой мрачной серьезностью, что ни у кого, кто слышал бы ее сейчас, не возникло бы ни капли сомнения в том, что действительно «не основание…». — И потом, погибнуть, прежде чем повидаться со мной?! Какое непозволительное легкомыслие! Как же вы меня, граф, разочаровали!
Не прислушиваясь более к ее словам, потянулся к Лили руками, намереваясь снять с седла. И было мгновение, когда баронесса почти интуитивно подалась к нему, но, метнув взгляд в сторону медленно проходившего неподалеку обоза, все сопровождение которого любовалось их трогательной встречей, богобоязненно отпрянула и, вновь проникнувшись надлежащей баронессе фон Вайнцгардт надменностью, едва слышно молвила:
— И не пытайтесь превращать этот холм в жертвенник моей… моего ожидания, — так и не решилась произнести слово, которое неминуемо должно было сорваться с выразительно очерченных, чувственных губ ее. — Не рассчитывайте, что после каждого вашего исчезновения я стану месяцами высматривать вас с его вершины.
— Да? Жаль. А мне уже почудилось в этой встрече на холме нечто ритуальное. В ней и в самом деле есть нечто такое… Кстати, у него существует название?
— По-моему, нет.
— Так не должно быть, — решительно молвил мушкетер, легко взбираясь в седло. — «Холм Невернувшегося Рыцаря» — как вам такое наименование? Интригующее, не правда ли?
— «Холм Невернувшегося Рыцаря» — с задумчивой грустью повторила фон Вайнцгардт. — Отныне я так и прикажу называть его. Загадочно и мистично. В конечном итоге все в этом мире должно иметь свое имя. Взгляните вон туда, — указала баронесса кончиком хлыста на возвышавшуюся на прибрежном уступе белокаменную башню. На синевато-багряном полотне поднебесья она восставала мощной и в то же время грациозной, как предрассветное видение.
— Это она и есть?
— Когда вы гостили в замке, — тронула коня баронесса, — ее только начинали возводить. Я тогда загадала, что вы появитесь, как только каменщики завершат ее строительство, в связи с чем очень торопила мастера фортификационных дел Гутага.
— У нее тоже появилось название?
— Гутаг назвал ее как-то слишком уж просто — «Башней Лили», — скромно потупила взор баронесса. — И в связи с ее возведением даже начала зарождаться новая легенда.
— О мастере-фортификаторе, который, уложив в башню последний камень, метнулся с ее вершины в ущелье?
— Слишком мрачно и неестественно, граф. У этой башни совершенно иная легенда. В ней речь идет о некоем французском офицере, королевском мушкетере, все дороги которого — куда бы он ни направлялся — неминуемо приводили к этой башне, на вершине которой его высматривала истосковавшаяся баронесса.
— Подумать только: какая необычайно странная, загадочная история положена в основу этой легенды! — не преминул выразить свое восхищение д’Артаньян, стараясь при этом скрыть какие бы то ни было проблески иронии.
— А главное, совершенно непохожая на все прочие, доселе известные истории любви, — в том же тоне поддержала его баронесса Лили. — Понимаю, граф, что вы прибыли сюда как гость, — молвила баронесса, когда после пиршества они уединились в ее спальне. — Но каждый ваш визит я научилась проживать так, словно он составляет многие годы жизни.
— Я тоже попытаюсь научиться этому, Лили, — тут же импульсивно пообещал д’Артаньян, не очень-то задумываясь над последствиями подобных заверений. — Клянусь пером на шляпе гасконца.
43
Корабль, на котором казаки покидали Францию, отплывал с восходом солнца.
Сирко не смог уйти на нем, поскольку сотни воинов еще оставались здесь, на окраине Дюнкерка. Они уже не состояли на службе у короля Франции, деньги их были на исходе, а посла Польши судьба этих солдат не интересовала, так как в Украину казаки возвращались уже, по существу, повстанцами, воинами армии Хмельницкого.
Сирко не взошел на корабль, ибо понимал: он — последний, кто еще может хоть как-то отстаивать интересы казаков на этой окропленной украинской кровью земле; последний, кто еще сможет помочь им вернуться в родные степи.
И те, что уже теснились на палубе судна, и те, что оставались на пристани, не произносили ни слова прощания. Они молча смотрели друг на друга, и над почерневшими от загара и чада сражений лицами их властвовала суровая печать истории, которую они творили своим оружием и своим мужеством и которая теперь навечно оставляла их на своих скрижалях, — степных рыцарей кардинала, покоривших Францию отвагой и служением «не за плату, а за честь».
— Вы все еще здесь, полковник?! — неожиданно услышал Сирко томный женский голос, показавшийся ему удивительно знакомым. Он оглянулся и увидел у самого причала карету, на подножке которой стояла пшеничнокудрая красавица.
«Графиня де Ляфер!» — не разглядел, а скорее интуитивно распознал ее Сирко. Он помнил, что это благодаря ее стараниям они получили корабль «Гяур», на ее средства была закуплена и значительная часть провианта.
— Поскольку здесь все еще остаются мои воины, — ответил он, протиснувшись к карете сквозь строй погрустневших казаков. — Все мы очень признательны вам, графиня. Если бы не вы…
— Честно говоря, мне не очень-то хотелось, чтобы вы торопились с отъездом, полковник, — прервала его Диана. — Не знаю, чем вы будете заняты в своей Украине, но здесь для вас и ваших храбрецов дело еще найдется.
— Что вы имеете в виду, графиня?
— На этом же корабле мы могли бы отправиться совершенно в ином направлении. Такая перспектива вас не прельщает?
— Куда и под чьим командованием?
— Ну, допустим, под командованием князя Гяура. Вы ничего не имеете против такого командира?
— Как и против самого себя.
— Я пока что не могу сказать вам всего того, что должна была бы. Одно только обещаю: этот поход может оказаться интереснее и опаснее, нежели ваш нынешний, французский. Ну что, полковник, заинтриговала? — озорно улыбнулась де Ляфер.
— Почти. Вы знаете, что происходит сейчас в Украине?
— Но, как вы заметили, это происходит не по вашей воле.
— Тоже верно. И все же моя родина там, где земля киевская сходится с Диким полем.
Графиня понимающе промолчала.
— В Дюнкерке у князя Гяура есть дворец. Что-то в виде небольшого городского замка.
— Значит, князю повезло больше, нежели нам, бездомным и безродным казакам.
— До прибытия корабля дворец будет находиться в вашем распоряжении. Поселяйтесь там вместе со своими казаками, берегите его, охраняйте и ждите. Думаю, того времени, которое понадобится, чтобы корабль вернулся, вам вполне хватит, чтобы решиться на небольшое морское путешествие, ну, скажем, к берегам Африки.
Сирко растерянно пожал плечами.
— В общем-то, должно хватить.
— Будь на вашем месте князь Гяур, он согласился бы, не задавая лишних вопросов и не колеблясь, — с грустью упрекнула его графиня. — Но, как я сказала: «Будь на вашем месте князь Гяур…»
— Понимаю вас, графиня.
— Пока корабль вновь появится у причалов Дюнкерка, половина ваших храбрецов уже, очевидно, поженятся здесь. Остальные как-нибудь продержатся. Разве не так?
— Истинно так, истинно…
— Что же касается лично вас, то есть одна особа, которая крайне заинтересована в том, чтобы вы оставили сей берег как можно позже.
— Кто это? — удивленно уставился на графиню Сирко.
— Некая фламандка. Камелия. Вам известно такое имя? Ну не смущайтесь же столь безбожно, полковник. В такую женщину трудно не влюбиться.
«Камелия, — мысленно повторил Сирко. — Господи, из какого она мира?! Ты даже успел забыть о ее существовании, — тут же упрекнул себя. — Действительно, успел забыть…»
— Вот видите, как трудно оставлять землю, на которой ты сто раз не погиб и всего один раз влюбился, — молвил полковник, задумчиво при этом улыбаясь.
— Хочу надеяться, что князь Гяур покидал этот причал точно с такой же мыслью.
Они умолкли и с грустью посмотрели туда, где, уже на выходе из канала, виднелись паруса корабля, увозившего вдаль, в историю, в небытие воинов, вошедших в память Франции как «степные рыцари кардинала».
1
Великий визирь был командующим войсками ханства.
(обратно)2
В 1619 году повстанческая армия чехов действительно достигла предместий австрийской столицы Вены и готовилась к штурму, однако выступление Польши на стороне Габсбургов, как и относительная слабость чешской армии, не позволили повстанцам приступить к штурму мощных укреплений Вены.
(обратно)3
Молдавский воевода Грациани претендовал на земли Трансильвании. Кроме того, задавался целью свергнуть трансильванского правителя Бетлена Габора. Однако осуществить эти планы ему не удалось.
(обратно)4
Баварский герцог Максимилиан возглавил образовавшуюся в ходе Тридцатилетней войны Католическую лигу, в которую вошли Австрия, Испания и Ватикан. При этом лига пользовалась поддержкой Польши.
(обратно)5
Саин-хан. Больше известен в славянском мире как хан Батый или Бату-хан. Внук Чингисхана. Покорил Русь и основал в 1242 году государство между Волгой и Иртышом, получившее название Золотая Орда, со столицей Сарай-Бату (на левом берегу Ахтубы, левого рукава Волги).
(обратно)6
Яйла — высокогорный луг в Крымских горах.
(обратно)7
Многие знатные роды крымских татар причисляют себя к династии Уланов, основателем которой был полубожественный, героический предок Улан.
(обратно)8
Казак Гуня был избран гетманом повстанческого казачества после того, как гетман Яцко Острянин, поднявший в 1638 году народное восстание, оставил свое войско под Жовнином и с небольшой группой казаков ушел в Московию. Заседание польской правительственной комиссии, которая определяла судьбу казачьего реестра, состоялось в декабре этого же года на Киевщине. На ней-то Хмельницкий и был избран сотником. С этого избрания началась его карьера в казачьем войске польской армии.
(обратно)9
Криштоф Косинский — гетман Запорожского казачества (1591–1593 гг.). Руководитель (в эти же годы) крупного антипольского восстания. Согласно данным польского хрониста Иоахима Бельского был подло убит слугами черкасского старосты Александра Вишневецкого во время переговоров с польским командованием в Черкассах летом 1593 года.
(обратно)10
Исторический факт: полковник Яцко Клиша во главе небольшого посольства прибыл вначале в Перекоп, а затем, вместе с мурзой Тугай-беем, отправился в Бахчисарай, чтобы окончательно договориться о военном союзе казаков в борьбе против Речи Посполитой.
(обратно)11
Земли Едисанской орды располагались между Южным Бугом и Днестром, ограничиваясь на севере рекой Кодымой.
(обратно)12
То есть кувшинами. В украинских селах кувшины обычно сушились на торчащих из изгороди невысоких жердях.
(обратно)13
По поводу штурма Кодака историки резко расходятся во мнении. Одни утверждают, что Хмельницкий сразу же захватил ее и разрушил. Другие же аргументированно доказывают, что гетман, войско которого тогда еще оставалось малочисленным, не имеющим достаточно артиллерии, не стал тратить время и силы на эту крепость, благоразумно оставил ее в тылу, под присмотром небольшого заслона, а сам двинулся навстречу армии польского командующего Н. Потоцкого. Вторая версия представляется автору более правдоподобной.
(обратно)14
Исторический факт. Первую часть тех денег, что были обещаны Хмельницкому королем Владиславом, вручил ему в августе (сентябре) 1647 года коронный канцлер (премьер-министр) князь Оссолинский. При этом он сообщил Хмельницкому, что король жалует его запорожским гетманством. Достоверность этого факта была подтверждена генеральным писарем Запорожского казачества, а впоследствии гетманом И. Выговским, а также доверенным лицом канцлера С. Любовицким. Оссолинский также передал Хмельницкому заверения короля в том, что тот пожалует на создание казачьей армии и сооружение челнов еще 170 тысяч польских злотых. Факт получения денег был подтвержден в свое время самим Хмельницким в письме венецианскому послу в Австрии господину Сагреду. Поэтому есть все основания считать, что если бы не внезапная смерть короля Владислава в начале мая 1648 года, то есть в самом начале восстания, затеянная им и Хмельницким кровавая авантюра развивалась бы по совершенно иному сценарию, нежели тот, который известен нам из учебников истории.
(обратно)15
Иван Ганжа. Уманский полковник (в современном понимании, губернатор Уманской области в годы Хмельниччины), один из инициаторов восстания. Погиб в сентябре 1648 года в битве под Пилявцами. Остался в памяти народной как человек легендарной храбрости и талантливейший фехтовальщик.
(обратно)16
Урочище на речке Желтые Воды. Ныне — на территории Днепропетровской области Украины. Место это было выбрано поляками крайне неудачно, без учета рельефа местности и прочих факторов, что способствовало полной победе над ними войск Хмельницкого.
(обратно)17
Согласно польской дворянской традиции, окончание фамилий на — ский, — цкий являлось таким же титульным знаком аристократизма, как в германском языке приставка «фон», а во французском — «де». Получая дворянский титул, поляк обязательно добавлял к своей фамилии такое окончание или же принимал новую фамилию, как правило, по названию своего имения. Так, обладатель Вишневца стал князем Вишневецким, Поток — графом Потоцким и т. п.
(обратно)18
Исторические факты свидетельствуют, что Хмельницкий был недалек от истины. На самом деле войско Потоцкого насчитывало около семи тысяч солдат. Отряд Хмельницкого насчитывал порядка пяти тысяч сабель. Но еще больше казаки уступали полякам в вооружении, особенно в артиллерии. По некоторым сведениям, к моменту сражения под Желтыми Водами в мае 1648 года общая численность армии Николая Потоцкого, включая передовой отряд во главе с его сыном Стефаном Потоцким, составила около пятнадцати тысяч воинов.
(обратно)19
Михаил Криса — переяславский административный полковник. В начале освободительной войны — один из самых деятельных командиров армии Хмельницкого. Со временем он разошелся с гетманом во взглядах на дальнейшую судьбу и цели этой войны, на отношения Украины с Польшей. Во время битвы под Берестечком был послан Хмельницким на переговоры, после которых остался в польском лагере, не пожелав возвращаться в лагерь восставших.
(обратно)20
Филон Джалалия (Джеджалий, Джеджалык) — полковник, один из талантливейших полководцев армии Хмельницкого. Во время Берестецкой битвы был избран казаками наказным (временным, походным) гетманом. По национальности — крымский татарин. Известен был своей исключительной суровостью по отношению к подчиненным казакам и жестокостью по отношению к врагам.
(обратно)21
В странной и несколько запутанной офицерской иерархии реестрового казачества чин «войсковой есаул реестрового казачьего войска» следует воспринимать как генеральский.
(обратно)22
Исторический факт. 3 мая 1648 года казачьи полковники Кривонос и Криса действительно побывали в польском лагере под Желтыми Водами, где провели переговоры со Стефаном Потоцким, сыном коронного гетмана Николая Потоцкого. Они предлагали полякам сложить оружие, после чего всем им гарантировалась свобода.
(обратно)23
Стефан Чарнецкий. Известный польский военачальник, который был киевским воеводой, а затем коронным обозным, то есть ведал армейскими поставками и…артиллерией. В последние годы своей жизни был коронным гетманом.
(обратно)24
Казимир Леон Сапега, литовский военный и политический деятель. В битве под Желтыми Водами ему удалось уцелеть. Вместе с Чарнецким он попал в плен, однако был помилован Хмельницким. Впоследствии Сапега стал литовским подканцлером, то есть вице-премьером литовского правительства.
(обратно)25
Давайте спасаться, братья-полковники, водкой, потому что трезвеем. (укр.)
(обратно)26
Исторический факт. Многие из казаков, которые пришли во Францию, чтобы принять участие в Тридцатилетней войне, пожелали остаться там, причем почти все продолжали служить. И сейчас еще во Франции есть люди, которые помнят, что они являются потомками тех казаков, что сражались во времена д’Артаньяна; в связи с этим, они даже пытаются объединиться в историческое казачье братство.
(обратно)27
Полковник Иосиф Глух — один из талантливейших полководцев повстанческой армии. Был решительным противником Белоцерковских и других соглашений с поляками, подозревая, что Хмельницкий находится в сговоре с верхушкой Речи Посполитой. В П? ереяслав, на известную раду, он не явился, присягать на верность московскому царю категорически отказался, находился в оппозиции к Хмельницкому. Последнее письменное упоминание о нем связано с действиями его полка в 1655 году.
(обратно)28
В документах и в устных беседах «Короной» очень часто именовали Речь Посполитую, подобно тому, как Турцию именовали «Портой».
(обратно)29
Хронисты того времени называли тайных гонцов и послов Хмельницкого, поднимавших народ на восстание и разносивших весть о его победах, именно так — «эмиссарами»
(обратно)30
Русское воеводство Речи Посполитой охватывало тогда части территорий современных Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областей Украины. Именно там, на Западной Украине, местные жители дольше всех сохраняли свои исконные наименования — «русские», «русичи», «русины»… Что же касается государства, располагавшегося на территории современной России, то оно официально и неофициально именовалось во всех документах «Московией», а население называлось «московитами» (в Украине их еще именовали «москалями», что в те времена не носило унизительного оттенка). Термины «Россия», «Российская империя» были введены в Московии лишь через 73 года спустя после описываемых событий, то есть в 1721 году, специальным указом Петра I, когда Украина уже, по существу, была колонией. Появление этого указа было связано с принятием Петром I титула императора.
(обратно)31
Исторический факт: свою помощь повстанческой армии Хмельницкого крымский хан обуславливал миром с донскими казаками. Все закончилось тем, что гетману пришлось уговаривать донских атаманов не терзать Крым по крайней мере во время украинско-польской войны.
(обратно)32
Лревнее самоназвание поляков, а не оскорбительная кличка, как считают сейчас многие. Другое дело, что со временем оно приобрело ироническое звучание. Нужно помнить, что в ХVII веке татары, турки и другие восточные народы все еще именовали Польшу Ляхистаном. Нередко это название употреблялось в качестве официального.
(обратно)33
Известно, что именно варварское разграбление и уничтожение поляками в мае 1648 года города Корсуня, одного из самых древних и крупных городов Украины, послужило мощным толчком к повстанческому движению на территории всего Киевского воеводства. Оно же служило солидным оправдательным аргументом Хмельницкому, призывавшему народ к восстанию.
(обратно)34
В основе этого образа — историческая личность, мужественный воин Никита Галаган, чей жертвенный подвиг, по существу, решил исход всей Корсунской битвы, которая принесла казакам одну из самых славных побед в истории национально-освободительной войны 1648–54 годов.
(обратно)35
«Дарить красные ленты» на жестоком жаргоне казаков означало — вырезать полосы кожи на теле — одна из пыток, которой обычно подвергали поляки пленных казаков, прежде чем четвертовать.
(обратно)36
Историки не берутся решительно приписывать изобретение некоего предшественника орудийного лафета гетману Хмельницкому. Но сходятся во мнении, что это было очень важное и своевременное нововведение, сказавшееся на ходе войны и засвидетельствованное в летописи С. Величко.
(обратно)37
Здесь автор предпочитает употреблять современные термины, дабы облегчить восприятие происходящих событий. Но следует помнить, что уже тогда употреблялись такие термины, как «шпион», «тайный эмиссар», «лазутчик»… И что Лаврин Капуста, он же Урбач, действительно наладил мощную разведывательную службу при штабе Хмельницкого. Это он сумел раскрыть несколько заговоров против Хмельницкого и предотвратить покушения на него. Ему удалось создать целую сеть своей агентуры в Варшаве, Москве, Бахчисарае, Стамбуле…
(обратно)38
Исторический факт. После того как в феврале 1949 года Чигирин был официально объявлен столицей гетманата со ставкой в нем гетмана, Субботов полностью оказался отданным во власть полковника Лаврина Капусты (Урбача), который был назначен субботовским городовым атаманом (то есть мэром, старостой). Пребывая здесь, Капуста, по существу, исполнял обязанности министра иностранных дел Казачьей Украины. В Субботове он принимал послов, отсюда отправлял посольские миссии, отсюда же во все концы Европы уходили его агенты. То есть укрепленный хутор Субботов оказался в центре дипломатической жизни и разведывательной деятельности штаба Хмельницкого.
(обратно)39
Лаврин Капуста действительно был назначен гадячским военно-административным полковником. В Украине времен Гетманата функции военно-административного полковника (не путать с армейским полковником!) вполне сопоставимы с функциями генерал-губернатора. Административно-территориальное деление Украины было таковым, что вместо районов и областей существовали админсотни и админполки.
(обратно)40
Хмельницкий от своих слов не отступился. Именно Лаврин Капуста возглавлял посольство Хмельницкого в 1653 году на Земском соборе в Москве, на котором решался вопрос о военном союзе России и Украины. Именно он, от имени гетмана, обратился к русскому царю Алексею Михайловичу с предложением о таком союзе. Он же затем, накануне известной Переяславской рады, принимал послов русского царя у себя в Субботове.
(обратно)41
Здесь исследователи расходятся во мнении. Одни считают, что проводником стал сам Галаган, которого казнили уже после нападения казаков и татар на польскую колонну. Но это маловероятно, поскольку особого доверия как проводник он вызывать не мог. Более вероятным кажется утверждение, что проводником стал надворный казак из польского лагеря Зарудный, которого Потоцкий знал лично. Он-то и повел поляков через урочище Гороховая Дубрава, расположенное в десяти километрах северо-западнее Корсуня, да прямо в казачью западню.
(обратно)42
Триумфатор — римский полководец, добившийся выдающейся победы, за которую римский сенат удостаивал его права на триумфальное шествие. Триумфатору позволено было въезжать в Рим на золоченой колеснице, облаченным в пурпурную тогу и с лавровым венком на голове. За ним вели колонны пленных и везли военные трофеи.
(обратно)43
Грубая стычка двух польских гетманов (генералов) в самый разгар битвы засвидетельствована очевидцами и хронистом.
(обратно)44
Исторический факт: при прорыве князь Корецкий сумел уцелеть, и хотя он потерял большую часть своего отряда, но остальных все же вывел из окружения.
(обратно)45
В диалоге используются истинные высказывания Потоцкого и Хмельницкого, засвидетельствованные польскими хронистами и, в той или иной интерпретации, цитируемые историками разных столетий. При пленении Николай Потоцкий вел себя крайне вызывающе, пытаясь всячески унизить Хмельницкого.
(обратно)46
Исторический факт. После разгрома поляков под Корсунем, гетман Хмельницкий устроил пир, на который были приглашены все старшие офицеры польской армии, оказавшиеся у него в плену.
(обратно)47
Сотник, а после Корсунской битвы — корсунский админполковник Станислав Морозенко (настоящая фамилия — Мрозовицкий). Одна из наиболее загадочных личностей времен освободительной войны. Непревзойденный фехтовальщик. Аристократ, получивший образование в Краковском и Падуанском университетах. Прекрасно владел несколькими европейскими языками. Какое-то время служил при дворе короля Владислава IV, где считался одним из образованнейших придворных. Мотивы, заставившие его стать сначала реестровым казаком, а затем и присоединиться к восставшим, — неясны. В июле 1649 года погиб при штурме крепости Збараж.
(обратно)48
Разные источники называют разные даты смерти польского короля. Встречается указание на то, что он умер то ли второго, то ли десятого или двадцатого мая 1648 года.
(обратно)49
Монмартр переводится как Холм Мучеников. По преданию, название происходит от того, что в 272-ом году на этом холме были казнены парижский епископ Дионисий (Денни) и два его сподвижника. После казни Денни якобы взял в руки свою отрубленную голову и прошагал около шести километров. На месте, где он упал и где был похоронен, впоследствии возвели королевскую усыпальницу Сен-Дени.
(обратно)50
Согласно историческим сведеньям, официально о смерти короля Хмельницкий был уведомлен лишь в первых числах июня. Эту весть принес гонец канцлера Оссолинского дворянин Коллонтай. В том же письме, в котором сообщалось о смерти короля, канцлер предлагал Хмельницкому прекратить боевые действия и начать переговоры о перемирии. До прибытия этого гонца Хмельницкий делал вид, что не знает о смерти короля, и скрывал этот факт даже от своего ближайшего окружения.
(обратно)51
«Грош Святого Петра» — так называется взнос, которые делает каждый епископат католической церкви в казну Ватикана.
(обратно)52
Слово «непот» происходит от латинского «nepos», то есть внук, племянник. В XVI–XVII столетиях в Ватикане была широко распространена практика «непотизма», то есть раздачи папами высоких должностей своим ближайшим родственникам. Нунций Камелло Барберини (историческая личность) как раз и был одним из непотов-кардиналов.
(обратно)53
От слова «консистория», как называется собрание кардиналов, которые постоянно пребывают в Риме.
(обратно)54
Речь идет об Иване Выговском, который поначалу служил у Хмельницкого войсковым писарем (то есть начальником штаба армии), а затем, после его смерти, в годы правления Юрия Хмельницкого, по существу, сам стал гетманом, поскольку Хмельницкий-младший передал ему право на булаву. Во время Корсунской битвы он действительно служил в польской армии и был пленен татарами. По некоторым сведениям, Хмельницкий выкупил его за одного-единственного худосочного коня, что, по тем временам, было мизерной платой за свободу. Впрочем, это всего лишь одна из версий.
(обратно)

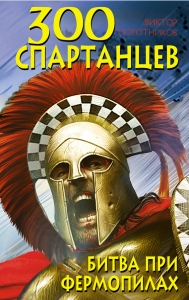



Комментарии к книге «Путь воина», Богдан Иванович Сушинский
Всего 0 комментариев